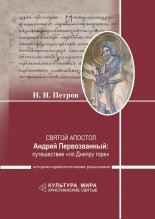Записки капитана флота Головнин Василий

Мы тогда находились не более как с милю от западного берега Симусира при южной его горе, идя для осмотра низкого перешейка, соединяющего южную часть острова, где гора сия находится, с северной его частью, гораздо большею, нежели южная. Течением нас приближало к берегу, тогда мы бросили лот, но 110 саженями дна не достали; это заставило нас спустить шлюпки и стараться если не отойти от берега, то, по крайней мере, на одном месте держать шлюп буксиром.
1 июня. В половине 1 часа наставший от ZW свежий ветер избавил нас опасности, мы тотчас отошли от берега. С полудня ветер перешел к ZZO и дул умеренно и постоянно 3 часа, потом стих. В это время, найдя широту свою в полдень посредством обсервации, мы сделали несколько верных крюйс-пеленгов, по каким определили широты и взаимное отстояние главных предметов NW стороны Симусира.
В 8 часов вечера взятые пеленги сопки Прево, Южной горы и северо-западного мыса Симусира сошлись в одну точку, а это показало нам, что после полудня мы взаимное их положение определили хорошо, а как теперь и западную сторону Кетоя мы пеленговали, то по румбу и по разности широты и его положения в рассуждении Симусира определилось, и утверждение прежде сысканного, по которому Кетой от N стороны Симусира находится на NOtO в 13 милях. Западная сторона Симусира от северной его оконечности до самого перешейка, находящегося ближе к южному краю, состоит почти из прямого берега, не имеющего никакой впадины, кроме обыкновенных изгибов, а у перешейка есть небольшой залив, для якорного стояния неспособный, будучи открыт совершенно к NW и ZW. Сей берег крут, утесист и высок, лесу не видно нигде: ни на горах, ни в лоциях. Из вершины сопки Прево мы приметили выходящий не беспрестанно, а с промежутками весьма тонкий дым. В тихую погоду, как у берегов этого острова, так и у Тоирпоя, видели мы очень много больших китов[79].
2 июня. Штиль и тихие ветры из разных четвертей компаса попеременно продолжались до полудня 2 числа, с мокрой и пасмурной погодой до 8 часов утра, а потом было только облачно, но светло; море так гладко и спокойно стояло, как в реке. С полудня ветер тихий стал от WZW, тогда мы пошли на NO к N стороне Симусира.
В 3 часу отправил я на берег для осмотра Бротоновой губы штурмана Хлебникова, а сам со шлюпом лавировал пред входом в Дианина проливе. Он возвратился на шлюп в 10 часу вечера; тогда мы из пролива пошли на восточную сторону островов. После полудня этого числа мы имели случай хронометрами определить долготу северо-западной оконечности Симусира, которая нашлась 152°24'10.
Что господин Хлебников нашел в упомянутой гавани, я приложу здесь в его собственных словах: «Перед входом в пролив, ведущий в гавань, находится множество морской каменной травы[80], покрывающей весь пролив: начиналась она с глубины 15 саженей, которая так крепко приросла к камням, что гребные суда за нее весьма удобно крепиться могут. Промеривая глубину по проливу, найдено, что от 9 сажен постепенно уменьшалась оная до 2, а в самом створе оконечностей лежит поперек каменной риф шириной в 2 или 3 сажени, на коем глубины 6 и 9 футов, за ним в залив углубление постепенно увеличивалось до 6 и 7 саженей. Сверх упомянутого рифа в разных местах есть камни, на которых глубина 9 и 8 футов, из этих более прочих есть от упомянутого рифа в средине прохода на N в 60 саженях камень, глубины на нем 10 футов, ширина пролива 60 или 70 саженей. В это время, когда я был на промере, т. е. около 4 часов вечера, была малая вода, тихое течение шло с моря в залив от NW.
По близлежащим берегам я приметил понижение воды от большой на 5 или 6 футов, а потому на упомянутом рифе и в самую большую воду должно быть глубины не более 12, а местами – 15 футов. Посему проход с моря в залив не только для больших судов, но и для малых может быть не всегда удобен, а иногда и опасен, а особенно, когда сильное волнение и течение с моря будут. Окончив сей промер, я поехал осмотреть залив. На оконечности входа пристали мы к берегу, где нашли 3 оставленные юрты и на пригорке старый деревянный крест; жителей не видно было, да по приметам они оставили это жилище, по крайней мере, нисколько недель. Тут есть небольшой пруд пресной воды. От этого места я поехал осмотреть другие части залива, переехав на другую сторону к высокой сопке, которая прямо против входа. Ехал возле берега к О; в ZO стороне оного пристал к берегу и пошел к показавшимся на О берегу нескольким юртам, в которых надеялся увидеть кого-нибудь из жителей.
Дорогой я видел множество разных трав, из которых иные годны в пищу, как то: щавель и борщевник. Многие полевые травы были уже в своем цвете. Из деревьев я приметил только низкие, из роду болотных берез, кустарники с распустившимися уже листьями, по возвышенностям рос кедровник; более этих я никаких дерев не приметил. Морских птиц по заливу весьма мало видно было, а потому и заключить можно, что и рыбой оный, по крайней мере в это время года, не изобилен. На берегу видел несколько родов небольших из роду воробьиного птиц, они приятно пели и были так смирны, что слетали только тогда, когда мы от них в 2-х или 3-х шагах были. Подходя к помянутым юртам, коих числом было шесть, приметили из разлога гор вытекающую небольшую речку, у которой устье с морского берега заметано было песком, сквозь который вода проходила в залив; несколько не доходя ее, на пригорке поставлен старый деревянный крест.
Придя в селение, никого из живущих в нем не нашли; подобно первым, оно оставлено хозяеввами довольно времени. В одной из юрт была оставлена не похожая на европейскую, грубая, подобная парусине, ткань, казавшаяся остатками парусов; да несколько новых кусков такой же ткани и в других юртах разбросаны были. Морских репок или яиц кожурки во множестве валялось около жилья, которые жителям, конечно, служили пищей. Также видели старые орлиные и иные с перьями кожи, по-видимому, для одежды им служащие. Окестности этого залива образуются со всех сторон, кроме восточной, крутыми из сыпучего камня горами. По восточную же сторону на разлоге гор есть долина, на которой земля, состоящая из чернозема с песком, покрыта травами разного рода, по берегам этого залива много наносного леса».
3 июня с полуночи до 6 часов пополудни ветер дул то тихо, то умеренно со шквалами из ZO четверти; погода была облачная, а иногда и пасмурная с дождем, но в 6 часов перешел он в ZW четверть. Ночью мы вышли из пролива Дианы к W и пошли поутру к ZWW вдоль западного берега Симусира в 6 или 7 милях расстояния, определяя пеленгами взаимное отстояние разных приметных гор и высокостей, которых прежде в пасмурности не видали. После полудня весь берег покрылся мрачностью, а скоро после густой туман нашел, следовательно, более сделать мы ничего не могли и стали держать от берега. В 9 часов вечера ветер перешел вдруг в W и, дуя тихо, с туманом и мокротой продолжался до 4 часов следующего утра.
4 июня. В 4 часа поутру соштилело, и туман стал еще более, но в 8 часу с наступившим ZW ветром прочистилось, и сделалась светло-облачная погода с временным солнечным сиянием. Тогда мы пошли вдоль берега к N оконечности Симусира, но пеленги наши этого дня не удались, ибо встретили мы сильное течение к Z, что доказывали сулои, какими часто мы проходили.
В первом часу, будучи довольно близко Бротоновой гавани, послал я туда шлюпку с мичманом Якушкиным за зеленью для команды. Между разными травами, привезенными в прошедший раз штурманом Хлебниковым, были конской щавель, борщевик и дикий пастернак: зелень весьма здоровая, а по не имению огородной, можно сказать, что и весьма приятная, почему я хотел сколько-нибудь оной достать для команды, и более для больных. Шлюпка возвратилась в 9 часу вечера с двумя пудами щавеля и борщевика: сей последней есть растение известное в России под названием купырьев. Во время отсутствия шлюпки, продолжавшегося 8 часов, мы имели почти беспрестанный штиль. Находились мы самом проливе Дианы, но от течения никакого действия не заметили; шлюп по компасу был не подвижен; этот случай доказывает неправильность здешних приливов. К прочим сегодняшним замечаниям нашим я присовокуплю еще два: поутру горизонт был столько чист, что мы видели в одно и то же время Бротонов остров, Тоирпой, весь Симусир, Кетой, Ушисир, Расшуа. Такие дни здесь столь необыкновенны, что их надобно особенно замечать. Нам случилось быть в таком положении в отношении Пика Прево, когда гора эта была совсем чиста, что мы ясно видели огромный кратер, в вершине ее находящийся; край его выломлен с той стороны, откуда мы могли приметить оный, но дыма совсем не видно было этого дня.
5 числа во все сутки ветер был тихий с южной стороны, переменяясь между ZWtZ и ZZO и временно утихая; погода пасмурная с туманом и часто с дождем. На самом рассвете мы могли увидеть в мрачности Симусир и Кетой. Пользуясь этим временем, прошли между ними на восточную сторону, чтобы там во время тумана лавировать. До 10 часов утра северный берег Симусира сквозь тонкий туман временно показывался, а потом совсем ничего кругом нас не стало видно.
6 июня. В следующие сутки с полуночи до 9 часов ночи блистала молния; ветер тогда дул тихий ZtO с густым туманом и мокротой; термометр показывал 40°, а барометр стоял на 28,90.
7 июня. На рассвете ветер стал дуть довольно крепко от ZZO, к 8 часам стал тише и пошел к Z; от этого румба дул он очень свежо с полудня до 6 часа, потом на 2 часа совсем затих, а после до полуночи был переменный тихий от ZZO до ZtW; погода стояла в эти сутки чрезвычайно дождливая с густым туманом. В 6 часу после полудня слышали мы два громовых удара: термометр тогда стоял на 41°, а барометр – на 28,70; и потом с 7 часов до самой полуночи блистала молния, и временно слышен был гром. В полночь термометр показал З9°, барометр – 28,68; ветер весьма тихий, от Z прямо, продолжался до полудня 7 числа с мокрой туманной погодой. В 8 часу утра сквозь тонкий, в одном месте прочистившийся немного туман увидели мы какую-то высокость Симусира; к полудню туман остался только над берегами, ветер совсем заштилил, и временно сквозь тонкие пары показывалось солнце. После полудня в разные времена, когда над берегами туман становился реже, открывались нам его горы, которые мы могли пеленговать для определения своего места. Штиль и большая зыбь от ZO были до 12 часу пополуночи.
8 числа ночью туман и дожди, а к рассвету только большая пасмурность с дождем, но туман прочистился, однако берегов в пасмурности и тумане не видать. В 7 часов утра одна гора Симусира открылась на несколько минут, но различить – какая, мы не могли; по счислению же должна быть Пик Прево, которой вершину мы опять видели в 11 часу и узнали ее. В 12 часу ветер дул тихий от Z, а в 1 часу – крепко от ZZO; но во 2 часу вдруг нашел шквал с дождем от WZW, и после получаса сделался тихий ветер от ZW; в 6 часу перешел он в NW четверть и начал крепчать. Наконец в 7 часов этого вечера стало на западной стороне прочищаться, тогда мы хорошо увидели горы Симусира, за которыми при заходящем солнце показалось ясное, лучами его освещаемое небо. По взятым пеленгам в 6 часов вечера мы находились от берега при сопке Прево на ZO 30° в 16 милях. В 9 часов очень крепкий ветер дул от W с жестокими шквалами, небо вверху было ясно, а по горизонту и над берегами облачно, но не пасмурно; мы ночью шли под малыми парусами к N стороне острова, чтобы на рассвете пуститься вдоль восточного его берега, если будет ясная погода.
9 числа с полуночи до 6 часов утра ветер был крепкий с сильными порывами от WNW и W, небо светлое с тонкими облаками, а в 7 часу начал дуть прямо от W жестокий шторм: мы вынуждены были марсели рифленые двумя рифами отдать на эзельгофт и закрепить крюсель. Жестокий сей ветер продолжался во все сутки, иногда на короткое время смягчаясь, потом опять начинал дуть с прежней свирепостью. Смотря по положению нашему в рассуждении гор на берегу Симусира, под ветром коего мы тогда находились, самый жестокий ветер был в час после полудня, который заставил нас остаться под одним грот-марселем на эзельгофте. Погода тогда была облачная с небольшим дождем. К полуночи ветер стал гораздо тише
10 июня. До половины дня 10 числа дул WtN умеренно с небольшими порывами, но погода была пасмурная и туманная. Берега Симусира и Кетой иногда сквозь мрачность нам показывались столько, что мы, лавируя перед проливом, могли хорошо знать свое положение[81]. С полудня ветер стих и пошел к N, погода выяснила, и берега хорошо открылись. Так после долговременного терпения удалось нам осмотреть в самом близком расстоянии восточный берег Симусира. Поутру еще по всем признакам казалось, что ветер склонялся перейти к N, для чего мы старались держаться против пролива севернее Симусира, чтобы при северном ветре можно было пройти вдоль всего берега этого острова.
Во 2 часу мы спустились на ZW в параллель оного и прошли его весь, идучи в 3 или 2 милях от берега, но у самой южной его оконечности нас застал штиль в очень неприятном положении: мы были не далее 3 миль от берега на неизмеримой глубине, и если бы пошла большая от ZO зыбь, столь здесь обыкновенная, тогда мы подвержены были бы большой опасности. Однако наставший от N в 11 часу ветер удалил нас скоро от берега. Главные предметы этого острова мы хорошо прежде определили по пеленгам и створным линиям, а проходил я так близко берегов его с тем намерением, чтобы точнейшим образом увериться, нет ли на нем какой другой гавани или залива, кроме виденного Бротоном. И теперь, обойдя весь остров кругом в таком близком расстоянии, на какое во всяком другом случае приближаться к столь опасным берегам почитается крайним неблагоразумием, и что извинить только может один предмет открытия или описи, я думал, что Душная бухта жителей Ушисира и Бротонова гавань есть один и тот же залив[82], которой годится только для самых малых мореходных судов.
Впрочем, кроме его на Симусире нет никакой гавани, залива или бухты, способной для якорного стояния. Остров сей кругом со всех сторон чист совершенно: ни рифов, ни отмелей, ни подводных камней около его нет; если ветер позволит, то на милю можно к нему подойти без всякой опасности, с которой стороны угодно. С восточной его стороны от N оконечности до сопки Прево берег равнее и ниже, хотя есть возвышенности, но редко, а южнее сей сопки он гористее. Леса на сей стороне также нет, как и на западной; от горы, находящейся от сопки Прево к югу в весьма приметной по своей плоской вершине, берег к Z спускается постепенно и потом на милю идет горизонтально, составляя тот самый перешеек, у которого с западной стороны есть впадина в берег; об оной было говорено прежде этого.
От вершины сопки Прево с ZО ее стороны до самого низа видели мы канал, подобный искусственно сделанному: он, должно быть, произведение изверженной лавы. Для определения положения этого острова мы находились около него 17 дней: пасмурность и почти беспрестанные туманы заставили нас употребить столько времени на такое дело, которое в благоприятном климате могли бы кончишь в 2 или 3 дня. Вот сколь трудно описывать здешние берега! Я не должен оставить без замечания, к чести английского капитана Бротона, что положение западного берега Симусира, им виденного, несмотря на позднее время его плавания (в половине октября по старому стилю) и мрачность климата, определено хорошо.
11 июня с полуночи до 8 часов утра мы шли к ZZW при тихом ветре, прежде прямо от N, а потом от NO; до рассвета было ясно, а с восхождением солнца сделалось пасмурно. Я имел причину полагать, что в Буссолева проливе шло к ZW сильное течение; надеясь на оное, взял курс так далеко от Урупа с намерением приблизиться к южной его оконечности с восточной стороны, где на картах назначена гавань. В 8 часов утра, хотя был туман, но он часто проходил, и горизонт очищался на большое расстояние, а потому мы стали держать на WZW. В 11 часу ветер пошел к О, почему была причина ожидать, что он перейдет к ZO, а этого ветра здесь туманы суть неразлучные спутники, то чтобы в продолжение их не быть у берегов против самой средины острова, стали мы держать к W. В полдень взяли высоту солнца и нашли широту 46°01', только горизонт был не совсем чист. Северная оконечность Урупа открылась нам в 5 часу после полудня, и лишь только мы успели крюйс-пеленгом связать положение пирамидного камня и высокую оконечность острова, от которой начинается каменная коса, как в 5 часов мрачность опять покрыла берега. Мы тогда от косы находились на ZO в 13° в 2 милях, то и пошли от берега к ZO при тихом ветре от ОNO. В 9 часу вечера ветер перешел в ZO четверть; мы тогда поворотили на правый галс, коим шли при умеренных тихих ветрах OZO, ZOtO и ZO до 8 часа следующего утра.
12 июня. До сего времени погода была пасмурная с тонким туманом, а как стало прочищаться, то мы тотчас спустились к берегу на WtZ и поставили все паруса. Берег северной стороны Урупа открылся нам в 10 часов утра, мы продолжали идти к нему, но, увидев впереди сильный сулой, привели к N вдоль него; но к 11 часам пошли в надежде, что свежий ветер, тогда дувший, пособит нам пересилить течение, которое было против нас очень велико: суда по медленности, с какой проходили мы берег, несмотря на большой ход, показываемый лагом, я полагаю, оное мили по две в час, стремилось оно к ZW; мы тогда находились от каменной косы к ZO милях в 5 или 7. Сулой сей занимал от O к W большое пространство, какого мы никогда между здешними островами прежде не видали. По разным местам оного видели большие стада птиц: ар, топорков, старичков, глупышей и пр., также носилось много морской травы и деревьев. По взятым наблюдениям солнечных высот до полудня и в полдень мы определили широту оконечности выдавшейся от Урупа к О каменной гряды 46°16'59.
После полудня скоро нашла мрачность и туман с ветром от ZZO, тогда мы пошли к О; во 2 часу туман немного прочистился и показал нам каменную косу, почему мы спустились на NNO, чтобы быть ближе к берегу на случай, если совсем оный от мрачности освободится. Но в 3 часу туман опять закрыл берега, в то время оконечность косы была от нас на WtZ в 5 или 6 милях. Тогда я решился пройти Буссолева проливом на другую сторону острова, увидев, что при ZO ветре на восточной стороне туманы, будучи в своем течении останавливаемы высокими берегами и горами островов, скопляются и густеют до такой степени, что в самом близком расстоянии от берега не видать ничего, следовательно, лавировать здесь – значит терять время напрасно. А на западной стороне мы всегда горизонта берега чаще находили, и я надеялся, что там нам удастся что-нибудь сделать. Проходя проливом в густой туман, мы, кроме великого множества разных вышеупомянутых родов птиц, касаток, морской капусты, и носящегося леса, ничего не видали.
В 8 часов вечера, полагая по счислению нашему, что мы прошли совсем пролив, привели бейдевинд на левый галс при свежем ветре с порывами от ZO, и тогда же почти открылся нам NW мыс Урупа[83] на ZW 3° на расстоянии по глазомеру 6 или 8 миль. По счислению нашему, со всякой точностью деланному, он должен в это время быть от нас на ZW 6° в 6 милях, но, полагая, что было течение к W, как то мы прежде заметили, я считал себя далеко западнее пролива, а в самом деле мы еще в нем находились. Из этого следует, что в то время, как мы шли проливом (от 2 до 8 часов после полудня), чувствительного течения не было. Увидев берег, мы шли к нему полчаса под малыми парусами, чтобы увериться лучше в расстоянии до него, а потом поворотили на правой галс; ветер был крепкий ZO с пасмурной мокрой погодой. В 11 часу на ветре прямо было необыкновенное явление, или метеор, который состоял в ярком свете, продолжавшемся секунд пять, отчего вдруг сделалось почти так светло, как днем, и вода кругом шлюпа приняла белый цвет; сей свет разлился во всей наветренной четверти горизонта.
13 июня. В полночь поворотили мы к берегу; ветер бы крепкий О и OZO с дождем почти во всю ночь; в половине 7 часа увидели мы прямо по курсу берег Урупа, к 8 часам приблизились к нему мили на 3; но как вершины, так и самые низменности его скрывались в мрачности, так что никаких приметных мест видеть было нельзя, то и не оставалось нам ничего другого делать, как, поворотив прочь, ожидать, пока не пройдет пасмурность. В 9 часов открылись вершины некоторых приметных гор и спустившиеся от них в море оконечности, а низменные места между горами были покрыты пасмурностью и туманом; тогда мы при порывистом свежем восточном ветре, поставив все паруса, какие по силе ветра только можно было нести, пошли к ZW вдоль берега на расстоянии от него миль пяти. Таким образом идя до 8 часа вечера, мы делали беспрестанно крюйс-пеленги для определения взаимного отстояния приметных мест; некоторые из них удались, а другие нет по причине частых шквалов, из лощин острова находивших, которые заставляли нас убирать вдруг паруса и мешали хорошо править рулем. В половине 8 часа настал штиль, и в остальные часы этих суток ветра совсем не было: погода стояла облачная, и по берегам мрачно. Северо-западная сторона Урупа чрезвычайно гориста и не ровна; горы разделяются на 4 куны, или кряжа, почти поперек острова направление имеющие. Каждый их этих кряжей состоит из нескольких островершинных или плоских холмов разной фигуры и высоты; между кряжами находятся низменные места и долины, к коим берег вдается более или менее между мысами, спустившимися от вершин кряжей в море.
И как низкие места и долины покрыты пасмурностью, которая их отдаляет для зрения, а горы и выдавшиеся от них оконечности чисты, то когда из-под мрачности низкой берег виден, тогда кажется, что он далеко впадает внутрь острова и образует пространный залив, а когда низкого берега не видать, то можно подумать, что тут и хорошая гавань есть или пролив. Но коль скоро мрачность пройдет, и низменности покажутся ясно, тогда откроется, что казавшийся большой залив не что иное есть, как едва приметный вгиб берега. Мы часто обманывались таким образом, и этого дня остались в сомнении: между четвертым и третьим кряжем ничего в пасмурности видеть было нельзя, а по направлению берегов, сравнивая оное с картой Бротона, в сем месте должен быть проив между южною оконечностью Урупа и N берегом острова, которого южная часть на упомянутой карте не назначена. А как от пятого кряжа к ZW идет низкий берег, то мы заключили, что в пасмурности Бротон его не видал, следовательно и означил только северную сторону острова и пролив, отделяющий его от Урупа, а по расстоянию очень можно верить, что тут действительно пролив есть, ибо у Бротона он имеет только 16 миль ширины и направляется по румбу NW и ZO.
Неблагоприятная погода не позволила нам никаким астрономическим средством определить своей широты, следовательно, и узнать, точно ли мы видим то место, где он пролив положил. На сей стороне Урупа второй от N кряж приметнее всех: северная его гора, смотря на нее от NW, имеет на вершине не три шпица, похожие на трезубец, а другие три горы, южнее ее, от W и ZW кажутся тремя колоколами, рядом поставленными, из которых средний гораздо выше других двух. Первый кряж гор приметен по одной круглой горе, над прочими возвышающейся, и по оконечности к WNW, от ней спустившейся, которая кончится прямым, почти перпендикулярным каменным утесом, возле коего в стороне стоит высокий прямой кекур, а четвертый кряж состоит больше частью из плосковершинных гор. Подходящим к острову от W все эти кряжи, лежащие длиною своею в направлении почти NW и ZO, кажутся сплошным хребтом гор, ибо тогда долины и низменности между ними не видны, а идя к средине его от N все кряжи ясно отделяются, и когда острые верхи их и неровности скрыты в мрачности, то они имеют фигуру хлебных скирдов, стоящих рядом, когда на них смотришь по черте, косвенной к направлению, в коем они поставлены. Вечером во время штиля мы видели около себя много очень больших китов, а птиц мало, кроме стада чаек, которых никогда прежде так много не видали от самой Камчатки.
14 июня с полуночи до 3 часов стоял штиль, потом до 6 часов дул весьма тихий ветер от WZW; после до 10 часов опять штиль, а потом задул ветер умеренный от ONO. Во все это время мы имели густой туман: поутру мокрый, а потом сухой. Мы держали бейдевинд под нужными парусами, чтобы не потерять своего места. В 3 часу после полудня прочистилось, и мы увидели Уруп, тогда при ветре NOtO тотчас спустились под всеми парусами к тому месту, где полагали пролив. Скоро после увидели сплошной берег, простирающийся от четвертого к третьему кряжу; а в 7 часов, подойдя к нему на расстояние миль четырех, увидели, что он и внутрь острова вгибается очень мало. На сем месте бросили лот, но 100 саженями дна не достали; после этого спустились под всеми парусами к ZW вдоль берега и стали брать пеленги видных из-под мрачности приметных мест, которых были только видны три горы, а прочие все скрывались.
По отлогостям гор мы приметили очень много высокого лесу, по белизне казавшейся нам коры его, должно думать, что березовый; а в долинах между горами мы видели очень ясно пространные места, покрытые зеленеющею летнею травой. Берега же острова вообще состоят из каменистых утесов, по-видимому, неприступных; мы, однако, заметили несколько мест, где нетрудно пристать на шлюпке, а особенно потому, что на западной стороне здешних островов бурун у берегов очень мал бывает. В разных местах видны были стремившиеся с высокостей водопады. Я надеялся, что вечером при светлости лунной успею еще осмотреть низкий берег, протягивающийся к ZW от четвертого кряжа, но в 9 часу небо покрылось облаками, а берега низкие туманом, и чтобы не потерять своего места до рассвета, мы привели бейдевинд на правый галс при ветре NOtO. Будучи в 6 милях от берега, мы нашли, что на горах очень мало снегу было, и то местами в ущелинах.
Хотя некоторые из них, по моему глазомеру, нимало не ниже сопки Сарычева или Пика Прево, несмотря на то что они были при первом нашем обозрении их покрыты снегом на треть своей высоты, но тогда лето только начиналось, и притом по географической широте и по обширности места здесь должно быть теплее. Ветер, переменяясь от NOtO, ОNО и О, при облачном небе и пасмурной погоде продолжался до 8 часов утра следующих суток (15 июня), однако в 7 часу мы увидели берег к ZO и спустились к нему; но как в 8 часов он опять покрылся туманом, то мы принужденными нашлись привести к ветру.
15 июня. До полудня стояло маловетрие между N и O, в полдень солнце сияло сквозь тонкие облака, и горизонт на северной стороне был чист, тогда по взятой штурманом Хлебниковым высоте обратной обсервацией секстаном определили мы широту свою 45°58'30. И как мы в это время находились против самого того места, которое прежде полагали проливом, Бротоном назначенным, то, сравнив широту с его картой, увидели, что оный должен быть южнее. Туман продолжался, и берегов не было видно до исхода 5-го часа, а как скоро берега показались, мы тотчас спустились к ним; но в половине 6-го часа снова нашедший густой туман заставил нас опять привести к ветру и идти от берега под самыми малыми парусами. В таком положении мы и оставались до самой полуночи.
16 июня. В полночь поворотили на левый галс при тихом ветре от О с облачной сухой погодой и пошли к берегу. Все высокости Урупа показались нам очень хорошо в 4-м часу, тогда мы, поставив все паруса, и подойдя к нему на расстояние 4-х или 5-ти миль, стали держать вдоль берега к южной низменной оконечности, делая на пути крюйс-пеленги.
Нынешний день был самый теплый, приятный и полезный для нас из всех прошедшего времени нашего здесь плавания. Небо покрывалось весьма тонкими облаками, сквозь которые сияло солнце, пасмурности не было, и горизонт был очень чист. После полудня ветер дул с достаточной силой, чтобы дать нам нужный ход для крюйс-пеленгов. Южную оконечность Урупа с западной стороны мы осмотрели очень хорошо, определили вернейшим астрономическим способом широту оной, так как и широту NO-го и NW-го мысов острова Итурупа, долготу их по хронометрам, а по крюйс-пеленгам – взаимное отстояние.
Расстояние от южной оконечности Урупа до NO-го мыса Итурупа, составляющее ширину Деврисова пролива, есть 13 миль почти по румбу О и W.
Уруп к югу кончится низменною оконечностью, продолжающеюся по всему ее протяжению, начиная от Z-ой высокой горы четвертого кряжа, от коего она начинает постепенно спускаться на 8 миль. На краю сей оконечности в мили от самого конца, оканчивающегося крутым, почти перпендикулярным отрубом, стоит невысокий, но весьма приметный холм, ибо оконечность по всей своей длине спускается постепенно и никаких неровностей не имеет, высота ее при самом конце может сравниться с мысом Пакерортом; далее к ZW от нее в или мили есть надводный, высокий, круглообразный камень, а возле него два небольшие, но гряды каменной, простирающейся от оного к W на 8 мыль, как то назначено на карте Лаперуза, никакой не существует. Берег совершенно чист и безопасен; на расстоянии от него 8 миль к NW линем в 170 саженей мы дна не достали; а к W от оконечности гораздо в меньшем расстоянии 180 саженями не нашли глубины.
По всему своему протяжению упомянутая низменность покрыта была прекрасной зеленью, берега ее прикрыты и не имеют никакого приметного изгиба, а горы, с NО-ой стороны ее находящиеся, которые составляют первый от ZW кряж острова, состоят из серого камня. Сей кряж, судя по количеству снега, на нем лежащего, в сравнении с прочими должен быть выше всех, хотя и не кажется таковым. Но из всех его гор нет ни одной приметной, ибо вершины их ровные и плоские; северная же сторона Итурупа высока и утесиста; впрочем, мы ее видели сквозь мрачность. По западную сторону Урупа мы видели очень много больших китов, также стали показываться стада чаек, каких мы от самой Камчатки не видели.
Июня 17-го числа с самой полуночи до 2 часов пополудни был туман (ночью мокрый, а днем сухой) при ветрах из ZO-й четверти, переходивших между ZOtO и ZtO; в продолжение тумана мы лавировали под малыми парусами в самом де Фризова проливе. Берег острова Итурупа несколько раз по прочищении над ним тумана нам показывался, и однажды мы подошли к нему мили на 2 или на 3, где 115 саженями дна не достали. К 2-м часам после полудня туман прочистился, и сделалась очень ясная погода, тогда мы спустились и пошли под всеми парусами при свежем ветре от ZZO вдоль сееро-западного берега острова Итурупа на расстоянии от него 3 или 4-х миль.
Северная его оконечность высока и крута; стороны гор почти до самых вершин покрыты мелким лесом и кустарником; в ущелинах между горами видели несколько водопадов, из которых один очень велик: вода в нем большим количеством падает перпендикулярно с высоты фут 100 или более, а в одной рытвине заметили рассеянные мелкие камни и другие признаки, что тут в известные времена течет небольшая речка, которая теперь суха. В 3 часу северо-западная оконечность острова была на ZW 78°, в створе с низким мысом, вдалеке показавшимся по глазомеру милях в 15 или 20, который более и более открывался по мере нашего хода, возвышаясь постепенно к высокой, куполообразной, покрытой снегом сопке, скоро после мыса нам показавшейся, от которой берег к NO также спускался постепенно и кончился низменностью.
Тогда мы заключили, что сопка находится на отделенном острове, и оный, по всем вероятностям, должен быть Иторпу или Аторку по карте капитана Крузенштерна, и что берег, у коего мы находились, принадлежал к особливому небольшому острову, между Урупом и Итурупом лежащему. Это заключение согласовалось с картой капитана Бротона, на которой означена одна только северная сторона этого берега, а потом между нею и Итурупом оставлено пустое место, полагая, что тут может быть пролив.
В намерении осмотреть в самом близком расстоянии и увериться, действительно ли есть пролив между ближним к нам берегом и тем, на коем стоит сопка, мы стали держать прямо к берегу и, приблизившись к оному, увидели при самом море на низменности несколько шалашей, две байдары и бегающих взад и вперед людей. Это было в начале 5 часа вечера; ветер нам позволил подойти к берегу безопасно, и волнения не было никакого. Для осмотра селения отправил я мичмана Мура и штурманского помощника Новицкого, а сам со шлюпом держался от берега милях в 3 или 2 . Потом, подойдя к селению на расстояние 1 или 1 мили до глубины 52 саженей с дресвяным грунтом, я сам поехал на берег. По приезде в селение первую новость наши офицеры мне сообщили, что тут находятся японцы, мохнатые курильцы и несколько курильцев с нашего 13-го острова, или Расшуа, и что как сей берег, так и все видимые нами к ZW составляют один и тот же остров Итуруп.
А между этим местом, где стоит селение, и сопкой берег уклоняется к ZO и образует едва вдавшийся внутрь его залив, называемый жителями Сана, в котором есть гористые, высокие и очень низменные берега, которые, показавшись нам вдали проливами, заставили высокости принять за отделенные острова. Свидание наше с японцами подробно описано в другой книге[84], а потому я не почитаю за нужное повторять тоже здесь. Курильцы же наши по моему приглашению приехали к нам в 8 часов вечера; от них удалось нам много узнать о географии Курильских островов и поправить прежние наши ошибки. Они были столь смышлены, что при виде наших планов их островов тотчас их узнавали, изъясняли положение и, показывая на разные места, сказывали нам настоящие их имена.
По их мыслям, остров Симусир, или 16-й, есть последний из принадлежащих России; Уруп и все острова от него к принадлежат Японии, а Теирпой и Бротонов остров ни тем, ни другим не принадлежат, но остаются нейтральными. Остров Северный Теирпой они называют Требунго-Теирпой, то есть Теирпой на Курильской стороне; южный Теирпой именуют Янги-Теирпой, или Теирпой на Мохнатой стороне. Бротонов же остров у них называется Макинтур, что означает на курильском языке «северный». Они себя, то есть жителей Курильских островов, принадлежащих России, называют курильцами, полагая, что имя это принадлежит собственно им одним, а прочих курильцев зовут просто мохнатыми. И когда нам в разговоре с ними случалось назвать этих мохнатых курильцами, то они с некоторыми знаками неудовольствия или удивления возражали: «Какие они курильцы? Мы Курильцы! Все они носят на шее кресты или образа маленькие в кожаных мешочках и имеют русские имена».
На Симусире и на Урупе жителей настоящих нет, а приезжают за промыслами и для сбора кореньев, годных в пищу, с других наших островов. На Симусире Бротонову гавань они называют То, что на их языке значит «озеро», а Душная бухта, которую сперва мы полагали то же, что и Бротонова гавань, есть небольшой, едва приметный вгиб берега на восточной стороне острова немного южнее северного холма, которую они называют Уратман, то есть кислая иди вонючая губа, а русские промышленные назвали Душная бухта, потому что там на берег выбрасывает много морских растений, которые гниют и дурно пахнут; в сей впадине они пристают на своих байдарах.
Они нам сказывали, что в Урибитче, главном японском селении на этом острове, есть речка и хорошая судовая гавань, в который ныне стоит пришедших с товарами 4 судна. Позднее время не позволило мне продолжать с ними разговор.
18 июня. Ночь была лунная, светлая, море совершенно спокойно, при настоящем штиле. Около 8 часов утра приехали к нам с берега прежние наши курильцы, из них мы оставили одного по имени Алексей показать нам гавань, которая, по их словам, была на восточной стороне Урупа. К полудню ветер стал изрядно дуть от Z, погода была светлая, и чтобы успеть осмотреть восточный берег Урупа, отправив курильцев на берег, мы поставили все паруса и пошли к О. После полудня ветер дул очень слабо от Z и из ZW четверти, мы находились в проливе де Фриса. Этого числа нам удалось взять несколько лунных расстояний, но как с точностью нельзя было определять широты, следовательно, и времени истинного сыскать не можно, то лунные обсервации послужили нам только к нахождению перемены, сделанной хронометрами.
Июня 19-го с полуночи до 4 часов утра ветер был свежий с порывами, переменный в ZW-ой четверти, потом до 8 часов прямо от W. Тогда открылась нам N оконечность острова Итурупа почти на W милях в десяти; но через несколько часов опять покрылась густым туманом с мокротой, который при ветре от NW и WZW продолжался до 2 часов пополудни, прочищаясь иногда на короткое время столько, что мы берега Урупа могли видеть. В 2 часа мы были от восточного берега сего острова при Z-ой стороне последнего от NO-го кряжа гор к ZО милях в четырех, с 2-х часов до 8 вечера ветер беспрестанно переменялся из ZO и ZW четверти и дул умеренно с небольшими порывами; погода была облачная, но временно выяснивало; мы шли вдоль берега к NO-ту. Непостоянство ветра и мрачность, скрывавшая часто приметные места на берегу, не допустили нас употребить крюйс-пеленги, но мы могли взять лунные расстояния, из которых вместе с взятыми вчерашнего и 17-го числа нашли перемену хода наших хронометров, которые показывали на 028 западнее, а потому долготы, определенные между 4-м июня (время, когда найдена последняя разность хронометров) и этим числом, должны быть исправлены этой переменой, полагая, что оная равномерна была.
20 июня. С восхождением солнца 20-го числа погода сделалась совершенно ясная, ни одного облака на небе не было видно; утро было самое чистое и приятное. Уруп весь открылся нам ясно; высокости его во все берега были отменно хорошо видны, лишь только в низменностях, разделяющих кряжи гор, стоял утренний летний туман, который скоро после исчез. Мы тогда находились от ближнего берега милях в 12 или 15, и по показанию лоцмана пошли к берегу, держа на высокую сопку второго от NO кряжа, против которой, по его словам, гавань должна находиться. Подходя к берегу, мы старались увидеть вход гавани, но кроме сплошного берега с небольшими вгибами и едва приметными, в море выдавшимися, утесами ничего не видали; спрашивали лоцмана, но он уверял, что мы еще не довольно близко, чтобы видеть отверстие, которое должно быть чрезвычайно узко. Распрашивая его подробнее при помощи рисунков, добились мы от него, что вход в гавань эту шириной не более, как три таких судна, как наше, рядом поставленных, но что она длинна, и во всю свою длину имеет равную ширину. Тогда я понял, что это более походит на канал, нежели на гавань.
На вопрос, как велика глубина в ней, он мог только сказать, что с байдары дна не видать. Я решился осмотреть эту заводь, думая, что если в ней достаочна для шлюпа глубина, и она далеко вдается внутрь острова, так, что волнение не может быть опасно, то нужды нет, что она узка, судно можно было поставить на швартовах; и я более полагал ее безопасной для судов потому, что прежде в ней зимовали суда промышленные, которые по изъяснениям курильцев на наши вопросы были немалой величины; одно из них и теперь там, как они сказывали, можно видеть лежащее на берегу. Напоследок под управлением нашего лоцмана приблизились мы мили на две к берегу. Я прежде ясно видел, что тут нет ничего похожего на залив или гавань, но ветер и погода позволяли безопасно так близко подойти, то для удовлетворения его я и приблизился на такое близкое расстояние, чтобы он простыми глазами мог увериться в своей ошибке; которую он скоро и признал, объявив, что гавань должна быть далее; тогда мы спустились и пошли вдоль берега к NO.
Пройдя миль 7 или 8, обрадовался наш лоцман чрезвычайно и, показывая на стоящий недалеко от берега ее высокой кекур, утверждал, что гавань тут и есть, и что пройдя его, она тотчас откроется. Коль скоро мы кекур миновали, то показалась нам небольшая впадина, в берег на полверсты по большой мере вдавшаяся, у которого берега при самой воде низки и песчаны; отверстие ее очень узко и совсем ничем не прикрыто с моря; словом сказать, почти открытой берег. Впадину эту он называл той самой гаванью, которую мы ищем. Я подозревал его в ошибке, но он смело утверждал, что это одно только и есть место, известное под именем судовой пристани, или гавани, где прежде все приходившие сюда для промыслов суда становились. Посему, убрав паруса в половине 11 часа утра, я отправил мичмана Мура и штурманского помощника Средняго с лоцманом для осмотра этого места.
Во 2-м часу пополудни посланные возвратились: они уверились, что осматриваемая ими заводь есть то самое место, которое мы искали. Они мне показали расположение и величину оной на черном рисунке: длина ее по румбу О и W – 3 кабельтова, ширина – 1; на средине глубина – только 3 сажени, а к берегам менее; во входе же – 9 сажен. Тогда вода была средняя; насколько она отливом убывает – неизвестно, следовательно, и нельзя знать глубины; в малую только воду, конечно, уже должна она быть менее 3-х сажен. С моря от востока заводь не закрыта, то есть она стоит прямо отверстием к океану, следственно, ужасные океанские валы, при крепких ветрах бывающие, с восточными ветрами должны входить в эту заводь беспрепятственно и производить там сильное волнение, почему она годится только для таких судов, которые с высокими приливами можно вытаскивать на берег, а с другими опять спускать, каковы, вероятно, промышленные суда и были.
Впрочем, нет сомнения, чтобы она не была, так называемая, судовая пристань, и лоцман наш в этом случае был совершенно прав, ибо на берегу найдены 4 юрты и балаган, которой мы и со шлюпа видели, два креста и лежащее на боку на низком месте на расстоянии 1 кабельтова от берега старое судно, о котором выше упомянуто было. Итак, теперь верно стало известно, что остров Уруп не имеет никакого залива, гавани, реки или какой другой пристани, способной для мореходных судов.
Подняв шлюпки, мы поставили все паруса и пошли к NO-й оконечности острова, чтобы повторить там крюйс-пеленги для связывания самых оконечностей с вершинами сопок, которых положение многократно повторенными пеленгами мы определили хорошо. В самое время крюйс-пеленгов нашли мы широту свою по полуденной высоте солнца, а долготу – по хронометрам, исправил оную вчера найденной погрешностью их: через это хорошо определились широты и долготы разных приметных мест острова. К вечеру ветер стал утихать, в 8 часов вошли мы в большой сулой, производивший сильное волнение, будучи от оконечности выдавшейся от Урупа к О каменной косы к ZO-ту милях в 5 или 7 глазомерного расстояния, к полуночи настал совершенный штиль. Эти сутки были для нас очень удачны: мы прошли с хорошим ветром в ясную погоду вдоль всей юго-восточной стороны Урупа в весьма близком расстоянии, осмотрели оный очень хорошо, нашли широту и долготу главных предметов острова и взаимное их друг от друга отстояние. Судя по частым туманам, здесь мы не ожидали так скоро с этим островом разделаться; теперь я приложу некоторые о нем замечания, сделанные мною самим и отобранные от нашего курильца, который на все вопросы отвечал искренно, а не так, как прежде, и в словах не сбивался.
По сему найдено самое большое протяжение острова – 54 мили по румбу ZW и NO, а самая большая его ширина должна быть не более 14 миль; он горист, высок и неровен; горы состоят, как я выше упоминал, из четырех кряжей, лежащих поперек острова и отделяемых один от другого длинными местами. Подходя к острову с восточной или юго-восточной стороны, первый от NO кряж приметен по круглой конической сопке, стоявшей на западной стороне острова. Второй кряж в средине имеет также круглую сопку, более на колокол, нежели на кон похожую; она стоит между двумя фигурою ей подобными горами, только ниже ее гораздо.
Впрочем, положение такое их не может быть из всех точек зрения одинаково: иногда они сближаются или бывают в створе. В третьем кряже нет ни одной приметной горы. Четвертый и последний кряж состоит из пяти сплошных гор, имеющих плосковатые, почти горизонтальные вершины, из которых нет ни одной приметной своей фигурой. Я упомянул здесь о приметах, по каким можно различать кряжи, для мореплавателей, которым случится быть в здешних морях, дабы они, увидев один кряж, могли судить по положению оного, против какой части острова они находятся. Ибо здесь часто случается, что несколько дней, а может быть, и неделю сряду весь остров скрывается в мрачности, которого в 10 и 5 милях не видать, а только изредка открываются на короткое время вершины гор, и то не всех вдруг, а порознь. Вообще горы сего острова стоят ближе к северо-западной стороне, а на юго-восточной между ними и берегом есть пологие, постепенно возвышающиеся ровные места и долины, покрытые зеленью.
По словам курильцев, на Урупе рек нет, а текут ручьи в разных местах. На южной его половине в долине между третьим и четвертым от NO кряжем находится небольшое озеро соленой воды, весьма изобильное рыбою, которое лежит поблизости северо-западного берега острова и соединяется с морем узким мелководным протоком, по которому в некоторых местах надобно байдары руками приподнимать, чтобы провести в озеро. Этим протоком заходит в него в большом количестве красная рыба (охотская нерка), гольцы (мальма в Охотске), горбуша, кунжа, а потому партии, приезжающие сюда промышлять, всегда располагают свою главную квартиру на берегах этого озера, для чего и пристают к острову с западной его стороны у низменного песчаного берега между 3 и 4 кряжем гор.
Кроме волков и лисиц (черно-бурых, сиводушек и красных), на нем нет никаких других зверей, а у берегов бывают бобры и тюлени. Северо-восточную каменную косу и юго-западную низменность курильцы по-русски называют Лопатками, потому что камчатский южный мыс называется Лопатка, отчего у них теперь это слово сделалось общим всякому остроконечному мысу; на их же собственном языке мыс называется Шеремга. Кроме березы, другого годного в строении леса на Урупе не растет, да и береза на нем не слишком крупна; но по количеству диких растений, покрывающих долины низкие места, надобно думать, что земля удобна к землепашеству и скотоводству, но свойство здешнего климата должно быть вредно для первого из этих полезных упражнений.
Берега этого острова приглубы и для приближения к ним на самое близкое расстояние совершенно безопасны: нет при них ни отмелей, ни рифов, никаких других скрытых опасностей; надобно только в случае штиля у северо-восточной косы остерегаться сильных течений и зыби, которые мы там всегда находили. Хотя жители Курильских островов и промышленные всякий вгиб берега или впадину называли бухтами, как, например озерная бухта, байдарочная бухта и проч., но в самом деле удобного и безопасного якорного места нет нигде кругом всего острова. Впрочем, для гребных судов есть низменный гладкий берег во многих местах, где они могут пристать и быть вытащены на берег очень легко, а самое лучшее из них находится, без сомнения в так называемой судовой пристани: в ней есть небольшая речка или ручей пресной воды, много лесу, годного для дров, недалеко от берега в изобилии растет сарана, черемша, петрушка и разного рода другая дикая зелень, годная в пищу, а притом и юрты, где можно укрыться от непогоды или ночью; почему в случае необходимости, хотя судну грузовому войти в нее нельзя, но оно может, держась в море, послать туда за необходимыми вещами людей на шлюпках.
Сия гавань лежит на юго-восточной стороне острова в широте 46°56'29; сама по себе она совсем неприметна с моря, но найти ее чрезвычайно легко и без широты во всякое время и погоду, лишь бы только вершины некоторых гор видны были, наблюдая следующее: приближаясь к берегу, надлежит курс свой так расположишь, что когда подойдешь к нему на расстояние 1,5 или 2 миль, так чтобы коническая сопка первого от NO кряжа гор была по правому компасу прямо на N. Но если ее не видать, то стараться привести высокую, колоколу подобную сопку второго кряжа, будучи в том же расстоянии от берега, на NW 43°, а будет и она скрыта, то надобно самую южную гору четвертого кража держать на ZW 64°. В случае же, что ни одной из них не видать, тогда должно приводишь на W невысокую круглую гору третьего кряжа, но эту последнюю, не видав прежде, трудно узнать; разве когда весь кряж виден, то она хотя и не высока, но, будучи чувствительно круглее всех других, может быть легко отличена.
Приведя себя в вышеозначенное положение, увидеть у берега недалеко отдельной кекур, не очень высокой, но приметный по конической или пирамидальной своей фигуре, будучи несколько наклонен к горизонту. От этого кекура к NO в небольшом расстоянии покажется низкий берег, краснеющий от песка и едва приметно вдавшийся внутрь острова; тут гавань и есть. Когда ветер не позволит так близко подойти к берегу, или состояние погоды сделает предприятие безрассудным, то лучше всего прийти с судном в такое положение на пристойное от берега расстояние, чтобы шлюпки могли идти с полным ветром по означенным выше румбам, прямо держа на отличительные горы, например: первую сопку – на N, которую – на NW 43° и проч. Тогда они придут к самой гавани легко, скоро и безопасно.
Мое намерение было пройти севернее Урупа на западную сторону островов и потом идти к Итурупу для описи северо-западного его берега, запасшись прежде в Сани или Урубитое водой и дровами, которые уже начинали к концу у нас приходить, однако причины опасаться недостатка в них мы не имели. Я только боялся, не сделали ли крысы с водяными бочками нижнего лага того, что с одной небольшой вверху стоявшей бочкой: они прогрызли дно и выпустили из нее всю воду. Но вода и дрова нам нужны были более для приведения шлюпа в настоящий груз: он стал слишком легок и не мог носить столько парусов, сколько по необходимости мы принуждены были иметь, лавируя от подветренных берегов, а предмет нашего плавания часто заставлял нас подвергать себя такой опасности. Но ветры и погоды заставили меня переменить мой план. При маловетрии из NO четверти, с которым мы подавались к ZW вдоль берега острова, будучи от ближнего его берега милях та 8 или 10, в полдень мы очень хорошею полуденной высотой солнца нашли широту свою (46°11'32). В то же время северная сопка была от нас на ZW 89°, следовательно, и ее широта верно определилась, а как она крюйс-пеленгами связана с другими предметами, то и их широты в подтверждение прежних наблюдений найдены.
22 июня. До полудня 22 июня ветер дул из NO четверти: ночью тихий, а к рассвету довольно свежий с густым мокрым туманом, продолжавшимся с полуночи до 9 часов утра; в это время туман прочистился, и мы видели восточный берег южной стороны Урупа на WtN милях в 6 или 8. Тогда, спустившись, пошли вдоль его к WZW под всеми парусами с намерением, пройдя де Фрисов пролив идти в Урибитч. К полудню выяснило, и день стал прекрасный[85], но ветер перешел к NW, следовательно, пролив нельзя было пройти, почему я принял намерение осмотреть северо-восточный берег острова Итурупа и стал держать к нему прямо. В 4 часа пополудни подошли мы к берегу на расстояние миль 4 или 5 при северо-восточной оконечности оного и пошли вдоль его. Берег крут, утесист и высок; на сей его оконечности стоят три высокие, не имеющие никакой приметной фигуры горы, отделенные одна от другой пространными разлогами; из них восточная, или ближайшая к берегу, в недальнем расстоянии, в когда вершина ее видна, отличительна выходящим из 4 или 5 мест дымом. Подаваясь далее вдоль берега, открывались нам оконечности выдавшихся в море мысов и покрытые лесом зеленью равнины на горных прикрутостях.
В 8 часу вечера показалось вам, что за одним мысом есть довольно глубокая впадина для гребных судов; ветер был тихий, море покойно, как в реке, а поднявшаяся с горизонта полная луна обещала прекрасную летнюю ночь. Тогда я отправил штурмана Хлебникова с переводчиком Алексеем на берег, приказав им пробыть там до рассвета, осмотреть берег и набрать годных в пищу кореньев и зелени, а сами мы под малыми парусами продолжали тихо идти вдоль берега на XW; но по мере, как мы подавались вперед и заходили за берег, и ветер стихал. Шлюпка наша приближалась к берегу и гребла вдоль его по одному с нами направлению к месту, удобному для приставания. Тогда мы ясно заметили, что она попала в струю противного ей течения, ибо, отвалив от шлюпа, она объехала нас очень скоро, хотя мы тогда имели изрядной ход; а теперь при самом легком ветре под малыми парусами, идучи не более узла, мы чувствительно отставали.
Между тем, начинало штилить, и горизонт к ZO принял другой вид, почему в 9 часу я велел сигналом ей возвратиться на шлюп. По приезде штурман Хлебников объявил, что они действительно встретили сильное течение от WZW вдоль брега. Когда шлюпка возвратилась, мы от ближнего берега находились милях в 3 или 4; до 11 часа ночи, можно сказать, был штиль, потом тихий ветер пришел от NNO, от полуночи сделался он смелее и подвинулся на румб к N, но погода не переставала быть ясная до 1 часа пополуночи (23 числа), когда мокрый туман покрыл нас.
23 июня. Мы шли от берега бейденвинд левым галсом под одними двурифляными марселями, чтобы не слишком много отдалиться от берега. Ветер NtO и N, умеренно дующий, затих в 9 часу, но туман продолжался; мы штилевали до первого часа пополудни, тогда ветер настал от NO, дул тихо, но все с туманом два часа. Я думал, что он стал постоянный, спустился на ZWtZ и велел их оставить все паруса, чтобы, не теряя времени, пока туман мешает нам описывать берега, перейти расстояние до острова Кунашира, на южной оконечности которого, по словам нашего лоцмана, есть хорошая гавань, где могли мы запастись водой, дровами, пшеном и зеленью. Но в 3 часу погода стихла совсем, а через час после задул ветер от ZW. Невзирая, однако, на столь частые перемены ветра, туман и сопутствующая ему сырость были постоянны: будучи очень близко берегов, мы их видеть не могли. К 7 часам вечера, переменяясь постепенно, ветер из ZW четверти перешел в ZO, мы продолжали путь тихо с туманом, лишавшим нас всех способов употреблять с пользой тихий ровный ветер и тишину моря.
Легкость шлюпа от издержания провизии, воды и дров заставила нас переносить на наветренную сторону кранцы с ядрами и картечами, служительские конки и другие удобопередвигаемые тяжести, дабы дать ему нужную устойчивость для безопасного употребления необходимых парусов, которые нам нужно было нести не в меру ни силе ветра, ни груза шлюпа, дабы не прижало к берегу. А потому, желая скорее прийти в гавань и получить воду и дрова, оставили мы описывать Итуруп, а стали держать на Z: прямо к острову Чикотану, на карте капитана Крузенштерна названному Кунаширом, на которой настоящий Кунашир стоит под именем Итурупа, принадлежащем девятнадцатому острову, именованному на вышеупомянутой карте Аторкой, именем неизвестным между жителями Курильских островов.
Июня 27 во все сутки тихий ветер дул из NO четверти, переменяясь между ОtN и NOtN. Погода была чрезвычайно пасмурная с мелким дождем до 4 часов вечера, а в это время прояснило немного. Но в половине 7 часа пасмурность опять нас покрыла: берег мытолько два раза могли видеть этого числа: в 5 часов утра NO оконечность Чикотана на ZWtW в 10 или 12 милях, и с 4 до 6 часов вечера видели обе оконечности этого острова, от которого по крюйс-пеленгу в 5 часов пополудни мы находились на О в 5 милях. Вершины Чикотана во все время были скрыты мрачностью, и мы их видеть не могли, а низменность видели хорошо. Остров сей с восточной стороны крут и утесист; северная его оконечность кончается прямым высоким отрубом, у берегов во многих местах есть отделенные высокие и большие камни, за которыми видны впадины низкого берега, где, кажется, гребные суда могут приставать безопасно, хотя на открытом к морю береге приметили сильной бурун. У северо-восточной части острова встретили мы небольшой сулой, на коем, как то всегда бывает, сидело великое множество разных морских птиц.
28 и 29 числа июня мы плавали около острова Чикотана, но пасмурные погоды, туманы препятствовали нам сделать ему первую опись. Правда, что иногда прочищалось, мы видели местами берега и горы как этого острова, так Кунашира и Итурупа, но на такое короткое время, что ни пеленгов не могли употребить, ни к берегу приблизиться было невозможно.
30 июня в 9 часу утра туман совсем прочистился, показались солнце и луна, и открылись нам местами берега южной части острова Итурупа, северной стороны Кунашира и весь Чикотан. Тогда мы стали держать в пролив между двумя последними[86] к южной стороне Кунашира, чтобы идти в гавань; мы думали, что наступил перелом погоды, и ласкали себя надеждой иметь дня два или три хорошего ясного времени. По лунным расстояниям в полдень мы находились в долготе 147°07'20, а в широте по меридиональной высоте солнца – 44°13'. В это время пик N горы Кунашира был от нас на NW 75° в глазомерном расстоянии 25 миль, по которому широта пика будет 44°19'36, и как румб был близко параллели, то от ошибки в примерно положенном расстоянии, в разности широты чувствительной погрешности произойти не может. Следовательно, если впередь не случится точнейшим образом определить широту этого пика, то вышеозначенная может быть довольно достаточной; крюйс-пеленгов же сделать тихий непостоянный ветер нам не позволил.
Южной стороны острова Итурупа мы ясно видели протяжение миль на 20 или на 25, которое занимают три большие кряжа высоких гор, отделенные один от другого пространными низменными местами. Третий от W кряж по количеству лежащего на нем снега должен быть выше других, но ни на одном из них мы не видали никакой горы, особенно приметной по своей высоте или фигуре. Напротив того, северная оконечность Кунашира отличительна по весьма приметной горе, возвышающейся постепенно большой массой и к верху суживающейся понемногу; на самой же вершине ее стоит не очень высокий конический пик. В сем отношении гора эта имеет некоторое сходство с Тенерифским пиком, но в высоте она пред ним, как карла пред великаном. Чикотан же очень невысок в сравнении с другими Курильскими островами и не горист, а ровен, лишь в средине есть одна небольшая, плосковершинная гора; он кажется круглым или овальным, имеющим в окружности миль 20 или 25; с северной его стороны видна немалая впадина в берег, где, может быть, есть якорное место.
Мы хотели пройти близ него, чтобы яснее увидеть тот залив, но погода хорошая стояла недолго: в 3 часу пополудни ветер от NNW вдруг перешел NOtO, и в то же время густой туман покрыл все берега на горизонте. Тогда мы находилась от острова Чикотана на NО 52° милях в 8 или 10 и пошли бейдевинд к ZO под малыми парусами; туман и пасмурность продолжались во все остальное время. С 9 часа вечера при свежем ветре от ОNО пошел сильный дождь с молнией и громом; в 11 часу гроза усилилась до высочайшей степени прямо над нами: страшный блеск молнии и сильные громовые удары, часто следовавшие один за другим, немногим уступали зимним громовым бурям мыса Доброй Надежды. К полуночи гроза стала удаляться, и удары сделались реже; при самой высокой степени оной шел проливной дождь, термометр показывал 42°, а барометр – 28,90.
1 июля. То тихий, то умеренный ветер из NO четверти с пасмурностью и мокрым туманом продолжался и во все следующие сутки; берегов в оные мы совсем не видали, хотя два раза, когда туман, раздвигаясь, открывал нам горизонт мили на две или на три, мы спускались прямо к Чикотану, но с приближением тумана опять приводили к ветру. В 6 часов после полудня встретили мы большие стада птиц.
Июля 2 с полуночи легкий ветер стал дуть от OZO и продолжался с переменой румба на два к Z до самого полудня, с проливным дождем и весьма пасмурною погодой, а ночью вдали к югу блистали молния, и гром был слышен. После полудня ветер перешел в NO четверть, но дул по-прежнему очень тихо и с таким же дождем и пасмурностью, как прежде, так что, несмотря на близость нашу к острову Чикотану, мы ни одного раза берега во все сутки не видали.
3 июля. В следующий день также во все сутки ветер не выходил из NO четверти, он дул большей частью очень тихо, и часто совсем штилило. Иногда шел дождь, и было мрачно, однако нередко так прочищалось, что мы видеть могли хорошо южный берег острова Чикотану. До полудня мы были от него к Z милях в 6 по глазомеру, а в час пополудни подошли на расстояние 4 миль, тогда мерили глубину и нашли оную 65 сажень, на дне – мелкий серый песок. В 6 часов пополудни ветер стал дуть ровнее от NO, погода была хотя облачная, но не слишком мрачная и не пасмурная, так что мы весьма хорошо видели всю юго-восточную сторону Чикотана и камни, находящиеся от этого острова к Z и к ZW, о которых упоминает Бротон, однако гор и берегов Матсмая и Кунашира видеть мы не могли; оные были скрыты в тумане. По всем признакам ветер обещал быть постоянным из NO четверти, почему я вознамерился пройти между островом Чикотаном и виденными к Z от него камнями с тем, чтобы на ночь держаться под ветром у помянутого острова в канале между ним и Кунаширом и быть готовым на следующее утро, буде погода поблагоприятствует, тотчас идти в канал между этим последним островом Матсмаем для отыскания желаемой гавани.
На сей конец стали мы держать к NW возле самой Z стороны Чикотана, которая состоит из утесистого крутого берега; между утесами есть небольшие впадины и вгибы; при береге много маленьких островков и камней довольно высоких, на которые бьет сильный бурун; а далее внутрь острова видны были рощицы, разделенные одна от другой прекрасными зеленеющими долинами, на постепенном возвышении подобно амфитеатру разбросанными. Мы хотели было определить вернее посредством крюйс-пеленгов взаимное отстояние стороны Чикотана и Бротонова камней, но скоро приметили невозможность это сделать от действия весьма сильного течения к ZW вдоль юго-восточной стороны Чикотана, которое с таким стремлением несло нас к упомянутым камням, что мы принуждены были, переменяя курс от NW постепенно выше, привести на NtW, и тогда едва могли миновать их в 1 или 2 милях; в сем расстоянии достали дно 35 саженями, грунт был серым песок. Между этими камнями есть весьма узкий, низкий, зеленью покрытый островок длиной версты полторы; видом он очень походит на находящийся в Зунде остров Салт-Голли: он находится от Чикотана в ZWtW на расстоянии по глазомеру от 9 до 10 миль.
Пройдя эти острова, держали мы бейдевинд к NNW при ветре из NO четверти под малыми парусами; в 8 часов ZO оконечность Чикотана закрылась от нас на ZO 85°, от этого времени до полуночи прошли мы почти на NtW 7 миль, меряя временами глубину, которая была: 22, 27 30, 32, 35 саженей; грунт везде чистый, серый песок. С последней глубины поворотили мы в полночь (4 июля) к ZО и шли до 3 часов утра, а тут с глубины 2З саженей и прежнего грунта пошли опять к NW.
4 июля. В 6 часов увидели берег Кунашира на NWtW: это была северо-восточная его сторона, к которой подойдя на расстояние миль четырех, пошли мы вдоль его к ZW. По мере нашего приближения к нему берег более и более открывался к Z, но мы видели только сначала низменности, а горы и высокие места скрывались в тумане. Берег сей высок, местами утесист и глубок. От последнего к Z ли юго-восточного мыса этого острова около половины 10 часа утра, будучи на расстоянии или 1 мили, нашли мы глубину 18 саженей, грунт – мелкий желтоватый песок. Подле сего мыса к ZW от него есть заводь низменного песчаного берега, где весьма удобно приставать на байдарах; на самом берегу ее виден был прекрасный домик. От этого мыса берег идет к ZW, вдоль которого и пошли мы на тот же румб на расстоянии от до 1 мили. Ветер был ровный с восточной стороны, погода облачная, но сухая, только пасмурность покрывала отдаленные берега, и мы, кроме Кунаширского берега, никаких других мест видеть не могли.
Мы шли от 3 до 4 миль в час, проходя находящиеся на берегу местами японские домики и шалаши мохнатых курильцев. Вся сия сторона острова покрыта большим лесом и вообще хвойным, а местами и черный лес примешен был. В 2 часа пополудни прошли мы высокие берега острова, а далее от него к югу протягивалась низменная коса расстоянием на 2 или 3 мили, местами на нем стояли деревья, которые казались стоявшими в воде, до тех пор пока мы не усмотрели низменной сей косы, а между деревьями приметили мы в двух разных местах небольшие селения. Коса эта, называемая японцами Керам, составляет восточную сторону гавани, о который сказывал нам Алексей. Чтобы войти в оную, нужно было войти в южный мыс косы, почему мы и пошли вдоль ее к югу, имея глубины от 4 до 3 саженей, грунт повсюду – песок и дресва. В 4 часа пополудни мы находились на глубине 3 саженей, грунт прежний, от самой оконечности косы на OZ в глазомерном расстоянии 1 или 2 миль; тогда открылись нам между Z и ZW из подтумана низменности берега на расстоянии миль 4 иди 6, которые мы приняли за Матсмайский берег. Но после рассмотрели, что то были небольшие низкие острова, лежащие пред Кунаширским заливом с южной стороны, которые тем легче было принять за Матсмайский берег, что высокости оного сливались с видимой частью этих низких островов.
Малая глубина заставила нас приближаться к гавани с осторожностью, для чего в 5 часов послан был штурман Новицкий вперед на шлюпке промеривать, а мы шли за ним по его сигналам и, пройдя с милю на румб WtN по глубине 3 , 3 , 4 и 4 сажени, вдруг с глубины 4 саженей пришли на 8 саженей, потом минут через пять – на 10 саженей; на дне – чистый желтой песок. В это время южная оконечность была от нас на NW 29° милях в 1 или 2; тогда же мы приметили, что стоявшее у берега косы японское судно пошло далее внутрь залива; должно было думать, что оно боялось нас. Мы шли далее до 9 часов вечера, а тогда, не желая причинить японцам страху и беспокойства входом к ним в гавань ночью, положили мы якорь на 9 саженей глубины, грунт – мелкий серый песок.
Южный мыс западной стороны гавани был от нас на NWtW, а южная оконечность косы почти на N. От последней малой глубины 4 саженей до положения якоря прошли мы к NW 3 мили по глубине 8, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 10 и 9 саженей, грунт везде – мелкий желтый песок. За час до положения нами якоря на средине низменной косы японцы зажгли пребольшой огонь, тогда и на южном мысе западной стороны гавани зажгли также огонь: первый скоро погас, а последний горел во всю ночь и мог бы служишь нам маяком, если бы только мы хотели ночью идти в гавань.
5 июля. В 4 с половиной часа утра 5 числа при тихом ветре от ZW снялись мы с якоря и пошли в гавань прямо на N, через час мы были в самом входе в оную, имея Z конец косы, составляющий восточную сторону этого залива, на О, а крепость, находившуюся в самом внутри его, на NO, с которой тотчас сделали в нас два пушечные выстрела, но ядра достать не могли: при входе в гавань глубина была 9 саженей, а потом стала постепенно уменьшаться, и на расстоянии мили, переплытой нами, уменьшилась до 4 сажен. Тогда мы положили якорь, быв от крепости милях в двух глазомерного расстоянии, и послали шлюпку промеривать. Бывший на ней штурман Средний на расстоянии полумили от селения нашел глубину 3 сажени, которая уменьшалась постепенно, на дне по всей гавани – песок. После промера мы подошли к крепости на расстояние около версты и стали на якорь на глубине 3 саженей, дно – серый песок.
С этого места крепость мы имели на NO 3°; южной мыс косы Керамы – на ZO 26°, а южной мыс западной стороны гавани – на NW 85°. Когда я поехал на берег, то японцы, подпустив шлюпку мою к крепости, стали в нас стрелять из пушек ядрами и заставили воротиться; после этого мы, снявшись с якоря, отошли к ZW около 3 миль и положили опять верп на глубине 4 саженей, грунт – песок. Тогда Z мыс W стороны гавани был от нас на NW 14°, а город – на NO 40°. На сем переходе мы имели глубину 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 5, 4 и 4, на дне везде песок. Так как уменьшение глубины заставило меня положить якорь, то и послал я штурмана Новицкого промеривать сначала на WNW, а после на ZW; в обе стороны он ездил на расстояние около мили. В первом случае глубина уменьшилась постепенно от 4 до 3 саженей; а в последнем увеличилась она до 5 саженей, на дне везде песок. Течение на этом месте по лагу нашла мы на WZW, мили в час.
Погода была очень тихая, почти, можно сказать, штиль до 10 часов вечера, а потом задул крепкий ветер от NW; мы прежде еще узнали о приближении оного по шуму, слышанному нами в проливе между Матсмаем и Кунаширом, который походил на бурун или на шум, производимый великим стадом касаток, когда они плывут по поверхности моря, почему заблаговременно положили еще вместо верпа настоящий якорь.
6 июля. Но с полуночи ветер стал очень крепок; один якорь не мог шлюп держать[87], несмотря на малую глубину, и мы принуждены были положить другой; тогда шлюп остановился. Крепкий ветер недолго продолжался и к рассвету совсем затих. В 8 часу утра снялись мы с якоря и стали лавировать к городу при тихих непостоянных ветрах. Около полудня, подойдя к японскому селению, поставили кадку с рисунком и с разными вещами для объяснения им причины нашего прихода и, отойдя опять от крепости, легли на якорь на глубине 4 сажень, грунт – серый мелкий песок. Тут мы все сутки простояли, чтобы дать японцам время на размышление.
7 июля. На другой день подошли мы опять к крепости за ответом, а не получив оного, пошли к селению, находившемуся на косе, называемой Керам, и послали шлюпки на берег взять воды и дров. Сами же стали возле оной на якорь на расстоянии от ближнего к городу селения мили, имея оное по румбу ONО. Воды тут не нашли, кроме мутной дождевой, а дров и несколько пшена взяли, оставив за оные разные европейские вещи. Во весь сей день был дождь и туман. На следующее утро японцы выставили ответ нам в кадке на воде, которого точного смысла понять мы не могли. Мы пошли на западную сторону гавани к устью примеченной нами там небольшой речки для получения пресной воды, стали на якорь на глубине 3 сажень от берега в одной версте: Z мыс Керамы был от нас на ZO 35 °, а Z оконечность западной стороны – на W.
Весь сей день и следующий мы наливали и возили на шлюп воду, японцы нас не беспокоили.
9 июля. Этого числа поутру [японцы] прислали курильца с предложением, что хотят переговорить с нами, почему я ездил на шлюпке к крепости и имел с ними переговоры на воде, вследствие которых и на следующий день ездил, выходил на берег и переговаривал с Японцами, но в крепость не входил. Этого числа после полудня мы налили всю воду, а к вечеру при свежем ветре от NO прилавировали к крепости и стали на якорь на глубине 31 сажени; грунт – мелкий песок. Крепость от нас была тогда на NO 4°; мыс Керамы – ZO 24°, Z мыс западной стороны на W. Став на якорь, посылали мичмана Якушкина на берег к японцам, они приняли его хорошо и снабдили рыбой.
Июля 11 в 9 часу утра поехал я на берег, взяв с собой мичмана Мура, штурмана Хлебникова, четырех матросов и курильца Алексея. По доверенности с японцами поехали мы к ним без всякого оружия, но они, заманив нас в крепость, задержали там силой. Все эти происшествия описаны в другой книге с надлежащей подробностью, а здесь должно сказать, что, занимаясь сношением с японцами и снабжением шлюпа провизией, водой и дровами, я предполагал после сделать все наблюдения и замечания, нужные дл точного описания сей гавани, которая, без всякого сомнения, есть самая лучшая гавань на всех Курильских островах, кроме некоторых на острове Матсмай, или, лучше сказать, что на этих островах и нет гавани, кроме этой, но японцы, захватив нас вероломным образом, положили конец нашей описи.
ЗАПИСКИ ФЛОТА КАПИТАНА РИКОРДА О ПЛАВАНИИ ЕГО К ЯПОНСКИМ БЕРЕГАМ В 1812 И 1813 ГОДАХ, И О СНОШЕНИЯХ С ЯПОНЦАМИ
Взятие японцами капитана Головнина при острове Кунашире. – Шлюп снимается с якоря и подходит к крепости. – Японцы начинают стрелять в нас из пушек; мы им отвечаем, сбиваем одну батарею, но главной крепости не могли никакого вреда причинить. – Покушения наши объясниться с японцами, но без успеха. – Хитрость, ими употребленная для завладения нашею шлюпкою. – Мы оставляем на берегу письмо и некоторые вещи для пленных наших соотечественников и отплываем в Охотск. – Прибытие в Охотск и отправление мое в Иркутск, трудности и опасности пути сего. – Весною я возвращаюсь опять в Охотск с японцем Леонзаймом. – Приготовление шлюпа к походу, на который я беру привезенных из Камчатки 6 человек японцев и отправляюсь к острову Кунаширу. – Опасность, угрожавшая нам кораблекрушением при острове св. Ионы. – Прибытие в залив Измены. – Безуспешные наши покушения открыть переговоры с Японцами. – Упрямство и злость Леонзаймы и объявление его, что наши пленные убиты. – Я отпускаю привезенных на шлюпе Японцев на берег и беру с японского судна других людей, в том числе начальника оного, от которого мы узнаем, что наши живы. – Отправление наше со взятыми японцами из Кунашира и благополучное прибытие в Камчатку.
1811 года 11 числа в 11 часов пополуночи и, ежели считать по древнему обычаю с сентября, то и 11 месяца июля, постигло нас то печальное происшествие, которое останется в памяти всех служивших на шлюпе «Диане» на всю жизнь неизгладимым и всегда будет возобновлять скорбные чувствования при воспоминании об оном. Известно читателям, что несчастие, постигшее капитана Головнина, ввергнувшее нас в глубокую тоску и поразившее дух наш недоумением, было неожидаемо. Оно разрушило все наши лестные виды о возможности возвратиться сего же года в отечество, коими услаждались мы при отправлении из Камчатки для описи Курильских островов, ибо, когда свершился роковой удар разлучением нас самым ужаснейшим образом с достойным и любимым нашим начальником и с пятилетними сослуживцами, никто уже не помышлял о возвращении к своим родственникам и друзьям, а все положили твердое упование на Бога и единодушно решились, как офицеры, так и команда, не оставлять японских берегов, доколе не испытаем всех возможных средств для освобождения своих сослуживцев, если они живы. Если же они, как мы иногда полагали, убиты – доколе не отомстим надлежащим образом на тех же самых берегах.
Проводив господина Головнина со всеми съехавшими с ним на берег в зрительные трубы до самых городских ворот, куда они были введены в сопровождении великого числа людей и, как нам казалось по отличному разноцветному одеянию, значащих японских чиновников, и руководствуясь одинаковыми с господином Головниным правилами, я нимало не подозревал японцев в вероломстве и до такой степени был ослеплен уверенностью в искренности их поступков, что, оставшись на шлюпе, занимался приведением всего в лучший порядок на случай приезда японцев вместе с господином Головниным как добрых посетителей.
Среди таких занятий около полудня слух наш внезапно поражается сделанными на берегу выстрелами и чрезвычайным в тоже время криком народа, бежавшего толпою из городских ворот прямо к шлюпке, на которой господин Головнин съехал к ним на берег. Посредством зрительных труб мы явственно видели, как сей народ, в беспорядке бежавший, со шлюпки расхватал мачты, паруса, весла и другие принадлежности. Между прочим, казалось нам, что одного из наших гребцов мохнатые курильцы понесли на руках в городские ворота, куда вбежав все, оные за собою заперли. В туже минуту настала глубочайшая тишина: все селение с морской стороны было завешено полосатою бумажною материею, и потому нельзя было видеть, что там происходило, а вне оного никто уже не показывался.
При сем насильственном поступке японцев жестокое недоумение об участи оставшихся в городе наших сослуживцев терзало наше воображение. Всякой удобнее может постигать по собственным своим чувствам, полагая себя на нашем месте, нежели я могу то описать. Кто читал японскую историю, тот легко может вообразить, чего надлежало нам ожидать от мстительного нрава японцев.
Не теряя ни минуты, я приказал сняться с якоря, и мы пошли ближе к городу, полагая, что японцы, увидя вблизи себя военное судно, переменят свое намерение и, может быть, согласятся, вступя в переговоры, выдать наших, захваченных ими. Но вскоре уменьшившаяся до двух с половиною сажень глубина принудила нас стать на якорь еще в довольном расстоянии от города, до которого хотя ядра наши и могли доставать, но значительного вреда нанесть были не в состоянии. И в то время, как мы приготовляли шлюп к действию, японцы открыли огонь с поставленной на горе батареи, которой ядра брали еще на некоторое расстояние далее нашего шлюпа. Сохраняя честь отечественного и уважаемого всеми просвещенными державами, а теперь оскорбленного флага и чувствуя правость своего дела, приказано было мною открыть пальбу по городу с ядрами. Около 170 выстрелов сделано было со шлюпа: нам удалось сбить упомянутую на горе батарею. Притом мы приметили, что тем не сделали желаемого нами впечатления на город, закрываемый с морской стороны земляным валом; равно и их выстрелы не сделали никакого повреждения на шлюпе. Посему я счел за бесполезное далее оставаться в сем положении, приказал прекратить пальбу и сниматься с якоря.
Японцы, по-видимому, ободренные прекращением нашего огня, палили без разбору во все время нашего удаления от города. Не имея достаточного числа людей на шлюпе, коими можно бы было сделать высадку, не в состоянии мы были предпринять ничего решительного в пользу наших несчастных сотоварищей (всех людей на шлюпе оставалось с офицерами 51 человек).
Потеря любимого и почитаемого ими капитана, который о них в переплытии великих морей и при переменах разных климатов толикое прилагал тщание, потеря прочих сослуживцев, исторгнутых коварством из средины их и, может быть, как полагали, лютейшим образом умерщвленных, – все сие до неимоверной степени огорчило служащих на шлюпе и возбудило в них желание отмстить вероломству до такой степени, что все с радостью готовы были броситься в средину города и мстящею рукою или доставить свободу своим соотечественникам, или, заплатя дорогою ценою за коварство японцев, пожертвовать самою жизнью. С такими людьми и при таких чувствованиях нетрудно было бы произвесть сильное впечатление над коварными врагами, но тогда бы шлюп оставался без всякой защиты и мог легко быть предан огню. Следовательно, всякое удачное и неудачное покушение осталось бы в России навсегда неизвестным, равно и собранные нами сведения в сей последней экспедиции при описании южных Курильских островов и много времени и трудов стоящее описание географического положения сих мест не принесли бы также никакой ожидаемой от того пользы.
Отошед далее от города, стали мы на якорь в таком расстоянии, чтобы ядра с крепости до нас не могли доставать, а между тем положено было написать к попавшемуся в плен нашему капитану письмо. В оном изложили мы, сколь чувствительна нам была потеря в лишении своего начальника и сослуживцев и сколь несправедлив и противен народному праву поступок кунаширскаго начальника; известили, что отправляемся теперь в Охотск для донесения вышнему начальству, что все на шлюпе до единого готовы будут положить жизнь свою, если других не будет средств к их выручению. Письмо подписано всеми офицерами и положено в стоявшую на рейде кадку. К вечеру мы еще оттянулись по завозу далее от берега и провели ночь во всякой готовности отразить нечаянное нападение неприятеля.
Поутру мы видели с помощью зрительных труб вывозимые из города на вьючных лошадях пожитки, вероятно, с тем намерением, чтоб мы не покусились каким-либо средством сжечь город. В восемь часов утра, руководствуясь, хотя с крайнею печалью, необходимою должностью службы, отданным от себя приказом принял я по старшинству моего чина шлюп и команду в свое ведение и потребовал от всех остававшихся на шлюпе офицеров письменного мнения о средствах, какое кто из них признает за лучшее к выручению наших соотчичей. Общим мнением положено оставить неприятельские действия, от которых еще может сделаться хуже участь плененных, и японцы, может быть, покусятся чрез то и на жизнь их, если она еще сохранена, а идти в Охотск для донесения о сем вышнему начальству, которое может избрать надежные средства к выручению захваченных, если они живы, или к отмщению за коварство и нарушение народного права в случае их умерщвления.
На рассвете послал я штурманского помощника Среднего на шлюпке к поставленной на рейде кадке осмотреть, взято ли третьего дня положенное наше письмо. Он, не доехав еще до оной, услышал в городе барабанный бой и возвратился в чаянии, что из города его атакуют на гребных судах. И в самом деле приметили мы одну отвалившую байдару, но она, несколько отъехав от берега, поставила еще вновь кадку с черными флюгарками. Увидав сие, мы тотчас снялись с якоря в намерении подплыть ближе к городу и послать гребное от себя судно осмотреть помянутую кадку, не найдется ли в оной письма или чего другого, по коему бы мы могли дознаться об участи наших товарищей. Но скоро приметили, что сия кадка прикреплена была к веревке, у коей конец был на берегу, с помощью коей нечувствительно притягивали ее к берегу, думая таким образом заманить шлюпку ближе и завладеть ею. Приметя сие коварство, мы стали тотчас на якорь. При малейшей возможности ласкали мы себя надеждою узнать об участи несчастных спутников наших, ибо с того самого времени, как сделались они жертвою японского вероломства, судьба их была для нас совершенно неизвестна.
С одной стороны, думали мы, что мстительность азиатская при таком неприязненном расположении не допустит их оставлять наших пленных долгое время в живых, а с другой – рассуждали, что японское правительство, похваляемое всеми за особенное благоразумие, конечно, не решится оказать мщение над семью человеками, во власть его попавшимися. Теряясь таким образом в неизвестности, мы ничего не могли лучшего придумать, как показать японцам, что считаем наших товарищей живыми и что никак не воображаем, чтоб в Японии жизнь попавшихся в плен не также сохранялась, как в прочих просвещенных государствах. На сей конец послал я мичмана Филатова к одному оставленному без людей селению, на мысу находящемуся, приказав ему оставить приготовленное и укладенное порознь с надписями для каждого из офицеров белье, бритвы и несколько книг, а для матросов платье.
14 числа с горестными чувствованиями оставили мы залив Измены, по справедливости названный сим именем офицерами шлюпа «Дианы», и пошли прямейшим трактом к Охотскому порту, будучи во все почти время окружены непроницаемым густым туманом. Одна сия туманная погода причиняла плаванию сему некоторую неприятность; ветры же были благоприятны и умеренны. Но ужаснейшая из всех бурь свирепствовала в душе моей, доколе мы по тихости ветров несколько дней плавали в виду ненавистного острова Кунашира! Слабый луч надежды по временам подкреплял мой унылый дух. Я льстился мечтою, что мы еще не навсегда разлучены с нашими товарищами; с утра до вечера я осматривал в зрительную трубку весь морской берег, надеясь узреть кого-нибудь из них, на челноке спасшегося из жестокого плена по внушению самого провидения.
Но когда мы вышли в пространство Восточного океана, где зрение наше за густотою тумана простиралось только на несколько сажень, тогда самые мрачные мысли мною овладели и не переставали днем и ночью наполнять мое воображение различными мечтами. Я жил в каюте, которую пять лет занимал друг мой Головнин, и в которой многие вещи оставались в том же порядке, как были положены им самим в самый день его отъезда на злополучный берег. Все сие напоминало весьма живо о недавнем его присутствии.
Офицеры, входившие ко мне с докладами, часто по привычке ошибались, называя меня именем господина Головнина, и при сих ошибках возобновляли скорбь, извлекавшую у них и у меня слезы. Какое мучение терзало душу мою! Давно ли, думал я, разговаривал я с ним о представлявшейся возможности восстановить доброе с японцами согласие, которое было нарушено безрассудным поступком одного дерзкого человека, и в чаянии такого успеха мы вместе радовались и душевно торжествовали, что сделаемся полезными нашему Отечеству. Но какой жестокий оборот последовал вместо сего? Господин Головнин с двумя отличными офицерами и четырьмя матросами отторгнут от нас народом, известным в Европе только по лютейшему противу христиан гонению, и участь их покрыта для нас непроницаемою завесою. Такие размышления доводили меня до отчаяния во всю дорогу.
Чрез шестнадцать дней благополучного плавания представились взору нашему строения города Охотска, как будто вырастающие из океана. Вновь построенная церковь была выше и красивее всех прочих зданий[88]. Низменный мыс, или, лучше сказать, морская отмель, на которой построен город, не прежде с моря открывается, как по рассмотрении всех строений.
Желая снестись, не теряя времени с портом, приказал я при поднятии флага выпалить из пушки, и в ожидании лоцмана с берега мы легли в дрейф. Вскоре приехал к нам от начальника порта лейтенант Шахов с поручением показать нам лучшее место. По его назначению стали мы на якорь. После сего я отправился в Охотск донесть о несчастии и потере нашей на японских берегах начальнику порта флота капитану Миницкому, с коим я и господин Головнин равным были связаны дружеством со времени нашего служения на английском флоте. Он изъявил искреннейшее соболезнование в постигшем нас несчастии. Усерднейшим принятием взаимного участия, благоразумными своими советами и всеми зависящими от него пособиями несколько облегчал мою скорбь, усугубляемую помышлением, что вышнее начальство из одного простого моего донесения о взятии господина Головнина японцами может заключить по первому взгляду, что я не привел в исполнение всех зависевших от меня способов для его выручки.
Усмотрев, что пребывание мое в Охотске во время продолжительной зимы совершенно для службы бесполезно, поехал я с согласия капитана Миницкого в сентябре месяце в Иркутск в намерении следовать до Санкт-Петербурга для подробного донесения обо всем случившемся господину морскому министру, чтобы просить его разрешения на кампанию к японским берегам для освобождения оставшихся в плену наших соотечественников.
Сим кончилась кампания, которая стоила нам столиких трудов и пожертвований, перенесенных нами со всею твердостью в той утешительной мысли, что исполнив волю правительства своего, окажем оному услугу распространением новых сведений об отдаленнейших местах и по возвращении своем вкусим приятный покой среди соотечественников наших. Но вопреки всем надеждам ужасное несчастие постигло нашего начальника и сотоварищей!
Мне надлежало в одну зиму успеть совершить предполагаемую в Санкт-Петербург и обратно в Охотск поездку, и потому я принужден был, не теряя времени в ожидании зимнего пути в Якутск (куда я приехал в исходе сентября), ехать опять верхом до самого Иркутска, что мне удалось исполнить в 56 дней. Всего расстояния проехал я верхом 3000 верст. Я должен признаться, что сия сухопутная кампания была для меня самая труднейшая из всех совершенных мною: вертикальная тряска верховой езды для моряка, привыкшего носиться по плавным морским волнам, мучительнее всего на свете! Имея в виду поспешность, я иногда отваживался проезжать две большие в сутки станции, по 45 верст каждая, но тогда уже не оставалось во мне ни одного сустава без величайшего расслабления. Самые даже челюсти отказывались исполнять свою должность.
Сверх сего и осенний путь от Якутска до Иркутска, возможный только для верховой езды, есть самый опаснейший. Большею частию езда совершается по тропам на крутых косогорах, составляющих берега реки Лены. Во многих местах протекающие с их вершин источники замерзают выпуклым весьма скользким льдом, называемым ленскими жителями накипень; и как якутские лошади вообще не подковываются, то всегда почти, переезжая через лед, падают. Однажды я, не досмотрев такого опасного накипеня и ехавши довольно скоро, упал с лошади и, не успев освободить ног из стремян, покатился вместе с нею по косогору и заплатил за неосмотрительность повреждением одной ноги. Разделавшись столь дешево, я благодарил провидение, что не сломал себе шею. Советую всем, кого нужда заставит ехать по сей ледовитой дороге верхом, не задумываться, ибо тамошние лошади имеют дурную привычку беспрестанно забираться вверх по косогору, и, когда наедешь при такой крутизне на накипень, нельзя ручаться в случае падения вместе с лошадью за сохранение глубокими мыслями наполненной головы.
Прибыв в Иркутск, я был весьма ласково принят господином гражданским губернатором Николаем Ивановичем Трескиным, к которому должен был за отсутствием сибирского генерал-губернатора явиться. Он мне объявил, что получив чрез охотского начальника мое донесение о приключившемся несчастии, давно уже препроводил оное к начальству вместе с испрашиванием разрешения в отправлении экспедиции к японским берегам для выручки капитана Головнина и прочих участников его бедствия. Сие неожиданное, впрочем для меня благоприятное, обстоятельство (ибо для сего единственно я предпринял многотрудную поездку из Охотска до Санкт-Петербурга) заставило меня согласно с предположением господина губернатора остаться в Иркутске в ожидании решения высшего начальства.
Между тем он, приняв великое участие в злополучии капитана Головнина, занялся вместе со мною начертанием предполагаемой экспедиции, которое и было вскоре отправлено на рассмотрение к Его Высокопревосходительству господину сибирскому генерал-губернатору Ивану Борисовичу Пестелю. Но по существовавшим тогда весьма важным политическим обстоятельствам не последовало на оное монаршего утверждения, мне же высочайше повелено было возвратиться в Охотск с разрешением от начальства отправиться со шлюпом «Дианою» для продолжения неоконченой нами описи и вмесите с сим зайти к острову Кунаширу для проведывания об участи наших соотечественников, захваченных японцами.
В продолжение зимы привезен был в Иркутск известный читателям (из записок господина Головнина) японец Леонзаймо по особенному вызову господина гражданского губернатора, которым он принят был весьма благосклонно. Прилагаемо было всевозможное старание вразумить его о приязненном расположении нашего правительства к японскому. Он, разумея довольно хорошо наш язык, казался в этом убежденным и удостоверял нас, что все русские в Японии живы и дело наше кончится миролюбиво. С сим японцем я отправился обратно в Охотск, но не верхом уже, а в покойных зимних повозках по гладкой реке Лене до самого Якутска, куда мы приехали в исходе марта месяца.
В сие время года во всех благословенных природою странах цветет весна, но здесь владычествовала еще зима, и столь суровая, что льдины, употребляемые бедными жителями вместо стекол в окнах, не были еще по обыкновению замещены слюдою с наступлением оттепели, и дорога к Охотску была покрыта весьма глубоким снегом, от которого проезд на лошадях был невозможен. Дожидаться, когда стает снег, ни я, ни мой японец не имели терпения, и мы пустились верхами на оленях, имея вожатыми их хозяев, добрых тунгусов. Я должен отдать справедливость сему прекрасному и полезнейшему из всех в услужении человека находящихся животных: верховая на нем езда гораздо покойнее, нежели на лошади. Олень бежит плавно без всякой тряски, и так смирен, что когда случалось с него падать, он оставался на месте, как будто вкопанный. Сему в первые дни мы довольно часто подвергались по причине чрезвычайной неловкости сидеть на маленьком вертляном седлишке без стремян, наложенном на самых передних лопатках, ибо олень весьма слабоспин и не терпит никакой тягости на средине спины.
Прибыв в Охотск, нашел я шлюп в самых необходимых частях исправленным. Всего же нужного исправления, по великой во многих отношениях неудобности реки Охоты, произвести в действие не было возможности. Невзирая, однако ж, на такие препятствия, при пособии деятельного начальника порта господина Миницкого мы успели приготовить шлюп к походу в такой точно исправности, как бы в лучших портах Российского государства. А потому справедливым почитаю при сем случае изъявить признательность оному отличному начальнику, много содействовавшему к предстоявшему и счастливо совершившемуся путешествию. Для умножения команды шлюпа «Дианы» прибавил он еще из Охотской морской роты одного унтер-офицера и десять солдат, а для безопаснейшего плавания отдал под мою команду один из охотских транспортов – бриг «Зотик», на коем командиром сделан лейтенант Филатов, один из офицеров командуемого мною шлюпа. Кроме сего, выбыл из моей команды лейтенант Якушкин для начальствования на другом охотском транспорте – «Павле», шедшем в Камчатку с провиантом.
18 июля 1812 года, быв в совершенной готовности к отплытию, принял я на шлюп шесть человек японцев, спасшихся с разбитого на камчатских берегах японского судна для отвозу их в отечество[89]. В 3 часа пополудни 22 июля отправились мы в путь в сопровождении брига «Зотика».
Мое намерение было идти кратчайшим путем к Кунаширу, то есть Пиковым каналом или, по крайней мере, проливом де Фризовым. На пути нашем до самого острова Кунашира ничего особенно примечательного не случилось, кроме того, что мы однажды были подвержены чрезвычайной опасности. Около полудня 27 июля небо от пасмурности очистилось так, что мы хорошо могли определить свое место, от которого в полдень остров св. Ионы был к югу в 37 милях. Остров сей открыт командором Биллингсом во время плавания его на судне «Слава России», предпринятого им из Охотска в Камчатку. Географическое положение его по астрономическим наблюдениям весьма верно определено капитаном Крузенштерном. Вообще сказать можно, что все те места, которые сей искусный мореплаватель определил, могут служить почти столь же точною поверкою хронометрам, как и Гринвичская обсерватория.
Посему мы нимало не сомневались в истинном положении своем от оного острова, равно как и наше место в полдень сего дня было определено с довольною точностью. Почему мы и стали править таким образом, чтоб миновать остров милях в 10 расстояния, а бригу «Зотику» приказал я чрез сигнал держаться от нас в полумили. Намерение мое было, если погода позволит, осмотреть остров св. Ионы, весьма редко видимый охотскими транспортами и компанейскими судами, так как он лежит не на пути обыкновенного тракта из Камчатки в Охотск.
С полуночи на 28 июня ветер продолжал дуть при густом тумане, сквозь который в 2 часа увидели мы прямо перед собою высокий камень в расстоянии не более 20 сажень. Тогда положение наше было самое опасное, какое только представить себе можно: среди океана в таком близком расстоянии от утесистой скалы, о которую в минуту могло разбиться судно на мелкие части, нельзя было и помышлять об избавлении. Но провидению угодно было спасти нас от предстоявшего нам бедствия. В мгновение мы, отворотив, уменьшили ход шлюпа и хотя, сделав сие, нельзя было вовсе избежать близкой опасности, но можно было уменьшить вред, причиняемый судну ударом о камень или приткновением к мели. Уменьшив ход шлюпа, мы получили один легкий удар носовою частью и, усмотрев чистый к югу проход, пошли в него и миновали вышеупомянутый камень и другие еще открывшиеся в тумане камни небольшим проливом.
Пройдя сии врата, мы опять, убавив ход, предались на произвол течения и вышли другим проливом между новыми камнями на безопасную глубину. После сего, наполнив паруса, удалились от сих опасных камней. Бригу «Зотику» чрез туманный сигнал дано знать о близкой опасности, но он, держась у нас на ветре, избежал угрожавшего нам великого бедствия.
В четвертом часу туман прочистился, и мы увидели всю великость опасности, от которой избавились. Весь остров св. Ионы с окружающими его камнями открылся очень ясно. Он в окружности имеет около мили и походит более на высунувшийся из моря большой камень конической фигуры, нежели на остров, отовсюду утесист и неприступен. К востоку в близком от него расстоянии лежат четыре больших камня, но между которыми из них пронесло нас течением за густым туманом мы не могли приметить.
При взгляде на сии страшные для мореходцев среди океана воздымающиеся из воды громады воображение наше исполнилось гораздо большим ужасом, нежели каковым мы были объяты в прошедшую роковую ночь. Опасность, которой мы внезапно подверглись, столь быстро миновала, что не успела в нас возродиться и боязнь от погибели, неминуемо долженствовавшей воспоследовать, когда шлюп, казалось, должен был о первую скалу, стоявшую прямо впереди, удариться и раздробиться. Но обходя оную в таком близком расстоянии, что можно было б на нее наскочить, вдруг шлюп, прикасаясь к мели, сильно три раза потрясся. Признаюсь, что сие потрясение потрясло и всю мою душу. Между тем волны, о скалы ударяющие, раздирая воздух, страшным шумом заглушали всякое отдаваемое на шлюпе повеление, и сердце мое замерло с последнею мыслью, что при общем кораблекрушении погибнут и все японцы, чрез кораблекрушение нам провидением посланные как средство к освобождению в неволе томящихся наших сослуживцев.
Кроме острова св. Ионы, во время прочистившейся погоды мы имели удовольствие видеть бриг «Зотик» не в дальнем от нас расстоянии. Дав таким образом нам осмотреться, покрыл нас по-прежнему густой туман, и зрение наше за густотою оного простиралось вокруг токмо на несколько сажень. После сего опасного случая мы, кроме обыкновенных на море препятствий от противных ветров, ничего особенного любопытства заслуживающего не встретили. Первую землю мы увидели в третьем часу пополудни 12 августа; оная составляла северную часть острова Урупа. Противные ветры и туманы не позволили нам пройти де Фризовым проливом прежде 15 числа, и те же препятствия продержали нас у берегов островов Итурупа, Чикотана и Кунашира еще 13 дней, так что мы в гавань[90] последнего из сих островов вошли не прежде как 26 числа августа.
Обозрев в гавани все укрепления и проходя мимо оных не далее пушечного выстрела, заметили мы сделанную вновь о 14 пушках в 2 яруса батарею. Скрывавшиеся в селении японцы с самой минуты нашего появления в заливе в нас не палили, и нам нельзя было усмотреть никакого движения. Все селение с морской стороны завешено было полосатою тканью, чрез которую только видны были одни кровли больших казарм; гребные их суда все были вытащены на берег. По такой наружности имели мы причину заключить, что японцы привели себя в лучшее противу прошлогоднего оборонительное положение, почему и остановились мы на якоре в двух милях от селения. Выше сказано, что в числе японцев был на «Диане» один несколько разумевший русский язык, по имени Леонзаймо. Он вывезен за 6 лет пред тем лейтенантом Хвостовым. Посредством сего человека изготовлено было на японском языке к главному начальнику острова краткое письмо, смысл коего извлечен был из доставленной ко мне от господина иркутского гражданского губернатора записки.
Г-н губернатор, объявив в записке своей причины, по которым шлюп «Диана» пристал к берегам японским, и описав изменнический поступок в захвате капитана Головнина в плен, заключил следующее: «Несмотря на таковой неожиданный и неприязненный поступок, быв обязаны исполнить в точности высочайшее повеление Великого Императора нашего, мы возвращаем всех японцев, претерпевших кораблекрушение у берегов Камчатки, в их отечество. Да послужит сие доказательством, что с нашей стороны не было и нет ни малейшего неприязненного намерения; и мы уверены, что взятые на острове Кунашир в плен капитан-лейтенант Головнин с прочими также будут возвращены как люди совершенно невинные и никакого вреда не причинившие. Но ежели, сверх нашего ожидания, пленные наши возвращены теперь же не будут, по неимению ли на то разрешения от высшего японского правительства или по другим каким причинам, то для требования оных людей наших в будущем лете придут вновь корабли наши к японским берегам».
При переводе сей записки Леонзаймо, на коего я возлагал всю надежду в усердном содействии в пользу нашего дела, обнаружил явным образом свое коварство. За несколько дней до прихода нашего в Кунашир я просил его заняться переводом, но он всегда отзывался, что записка пространна, и он перевести ее не может, «Я, – говорил он ломаным русским языком, – толкуй, что вы мне сказывай, и буду писать коротенькое письмо, у нас шибко мудрено пиши длинное письмо, япон манер не любить поклон; самый дела нада пиши, у нас китаец все такое пиши, то пиши, совсем ума потеряй». После такой японской морали надобно мне было согласиться, чтобы он изложил хоть один смысл. В день прибытия нашего в Кунашир, призвав его в каюту, я спросил письмо. Он подал мне оное на полулисте, кругом исписанном. По свойству их иероглифического языка одною литерою выражать целое речение оно долженствовало заключать в себе подробное описание дел, казавшихся ему важными для сообщения своему правительству, следовательно, для нас весьма невыгодных. Я тотчас сказал ему, что оно очень велико для одного нашего предмета, и что верно им много прибавлено своего; я требовал, чтоб он прочитал его мне, как может, по-русски.
Нимало не оскорбившись, он объяснил, что тут три письма: одно краткое об нашем деле; другое о кораблекрушении в Камчатке японцев; третье о его собственных в России испытанных несчастьях. На сие объявил я ему, что теперь нужно послать одну только нашу записку, а другие письма можно оставить до будущего случая. Если же он непременно ныне свои письма послать желает, то чтобы он оставил мне с оных копии. Он тотчас переписал без всякой отговорки отделение короткой нашей записки; на других же остановился, сказывая, что шибко мудрено переписывать. «Как может быть мудрено, когда ты сам писал?» Он отвечал, рассердившись: «Нет, я лучше это изломаю!» – и с этими словами схватил перочинный нож, отрезал ту часть листа, на которой написаны были два письма, положил его в рот и с коварным и мстительным видом начал жевать и при мне в несколько секунд проглотил. Что в них заключалось, остается для нас тайною. И сему хитрому, по-видимому, злобному японцу необходимость заставляла меня себя вверить! Нужно мне было только увериться, действительно ли на оставшемся лоскутке описывается наше дело.
В продолжение похода, почасту занимаясь с ним разговорами о разных предметах касательно Японии, записывал я некоторые переводы слов с русского на японский язык и любопытствовал знать без всякого тогда намерения, как пишутся по-японски некоторые приходившие мне на ум русские фамилии, в том числе имя всегда присутствовавшего в моей памяти несчастного Василия Михайловича Головнина. Я просил его показать мне то место на записке, где написана фамилия господина Головнина, и, сравнив после начертание литер с прежде им написанными, совершенно удостоверился, что дело идет об нем.
Сие письмо поручил я одному из наших японцев доставить лично начальнику острова; мы высадили его на берег противу того места, где стояли на якоре. Японец вскоре встречен был мохнатыми курильцами, кои, надобно думать, надзирали за всеми нашими движениями, спрятавшись в высокой и густой траве. Наш японец вместе с ними пошел к селению и лишь только приблизился к воротам, как с батарей начали палить из пушек ядрами прямо в залив; это были первые выстрелы со времени нашего прибытия. Я спросил у Леонзайма, для чего палят, когда видят, что один только человек, съехавший с русского корабля, смелыми шагами идет к селению? Он отвечал: «В Японии все так, такой закон: не убей человека, а палить надо». Сей непонятный поступок японцев вовсе почти истребил во мне породившуюся было утешительную мысль о возможности вести с ними переговоры.
Сперва мы, обозревая залив, подходили близко к селению, и они по нас не палили. Но сделанный нашему парламентеру прием ввергнул меня опять в отчаяние, ибо настоящую причину сих выстрелов постигнуть было трудно: на шлюпе не было производимо никаких движений, и наш катер, отвозивший японца на берег, находился уже при шлюпе. У ворот окружила нашего японца толпа людей, и мы скоро потеряли его из виду. Три дня прошло в тщетном ожидании его возвращения.
Во все сие время наше занятие состояло в том, что мы с утра до вечера смотрели на берег в зрительные трубы, так что все предметы до малейшей тычинки (от места, куда мы высадили своего японца, до самого селения), совершенно нам примелькались. Невзирая, однако ж, на сие, нередко воображению нашему казались они движущимися, и обманутый таким призраком с восторгом восклицал: «Идет наш японец!» Иногда же долгое время мы все пребывали в заблуждении, сие случалось во время восхождения солнца при густом воздухе, когда от преломления лучей все предметы чрезвычайно в странном виде увеличиваются. Нам представлялись по берегу бродящие с распущенными крыльями вороны японцами в широких их халатах. Сам Леонзаймо несколько часов сряду не выпускал из рук трубы и казался сильно встревоженным, видя, что никто не появляется из селения, которое как будто превратилось для нас в закрытый гроб.
При наступлении ночи мы всегда содержали шлюп в боевом порядке. Глубокая тишина нарушаема только была отголосками сигналов наших часовых, которые, распространяясь по всему заливу, предваряли скрытых врагов наших, что мы не дремлем. Имея нужду в воде, я приказал послать к речке гребные суда с вооруженными людьми для наливания бочек водою и в то же время высадил на берег другого японца, чтоб он известил начальника, для чего с российского корабля поехали суда к берегу. Я желал, чтоб Леонзаймо написал краткую о том записку, но он отказался, говоря: «Когда на первое письмо не сделано никакого ответа, то я опасаюсь по нашим законам более писать», а советовал мне послать на русском языке записку, которую мог перетолковать отправляемый японец, что мною и было сделано.
Чрез несколько часов сей японец возвратился и объявил, что он был представлен начальнику и отдавал ему мою записку, но он ее не принял. Тогда наш японец пересказал ему на словах, что с российского корабля съехали люди на берег наливаться у речки водою, на что начальник отвечал: «Хорошо, пускай берут воду, а ты ступай назад!» – и, более не сказав ни слова, ушел. Наш японец, хотя и оставался несколько времени в кругу мохнатых курильцев, но по незнанию курильского языка не мог ничего от них узнать. Японцы же, стоявшие, как он нам рассказывал, в отдаленности, не смели к нему приближаться, и наконец курильцы почти насильно проводили его за ворота. По своему простодушию японец признался мне, что имел желание остаться на берегу и просил начальника со слезами позволить ему хотя бы одну ночь пробыть в селении, но ему с гневом было в том отказано.
Из таковых поступков с нашим бедным японцем мы заключили, что и первого приняли не лучше, но он, вероятно, опасаясь по свойственной японцам недоверчивости возвратиться на шлюп без всяких сведений об участи наших пленных, скрылся в горах или, может быть, пробрался к другому какому-нибудь селению на острове.
Желая запастись водою в один день, приказал я в четыре часа пополудни послать остальные порожние бочки на берег. Японцы, присматривавшие за всеми нашими движениями, когда уже гребные наши суда стали подъезжать к берегу, начали с батарей палить из пушек холостыми зарядами. Избегая всякого действия, могущего казаться им неприятным, я тотчас приказал сделать сигнал, чтоб все гребные суда возвратились к шлюпу. Японцы, приметив сие, палить перестали. В продолжение семидневного нашего в заливе Измены пребывания мы ясно видели, что японцы во всех своих поступках показывали величайшую к нам недоверчивость, и начальник острова – по собственному ли произволу или по предписанию высшего начальства – вовсе отказался иметь с нами сношения.
Мы были в величайшем недоумении, какими бы средствами проведать об участи наших пленных. Прошлым летом оставлены были в рыбацком селении вещи, принадлежавшие сим несчастным; мы желали удостовериться, взяты ли оные японцами. Для сего приказал я командиру брига «Зотик» лейтенанту Филатову вступить под паруса и идти к тому селению с вооруженными людьми для осмотра оставленных вещей. Когда бриг подходил к берегу, с батарей палили из пушек, но по дальности расстояния опасаться было нечего. Через несколько часов лейтенант Филатов, исполнив порученное дело, мне донес, что ничего из вещей, принадлежащих пленным, в доме не нашел. Сие показалось нам хорошим признаком, и мысль о том, что наши соотечественники живы, всех нас ободряла.
На другой день я опять послал на берег японца уведомить начальника, для какой надобности ходил «Зотик» к рыбацкому селению; с ним же послана была краткая записка на японском языке. Мне стоило величайшего труда убедить Леонзайма написать ее. В ней заключалось предложение, чтобы начальник острова выехал ко мне навстречу для переговоров. В той же записке желал я еще обстоятельнее описать, с каким намерением ездила наша шлюпка в рыбацкое селение, но несносный Леонзаймо оставался непреклонным. Посланный японец возвратился к нам на другой день рано утром, и чрез Леонзайма мы от него узнали, что начальник принял записку, но, не дав от себя никакого письменного ответа, велел только сказать: «Хорошо, пускай русский капитан приедет в город для переговоров».
Такой отзыв был то же, что и отказ, и потому с моей стороны согласиться на сие приглашение было бы безрассудно. Относительно же извещения, зачем выходили наши люди на берег в рыбацкое селение, начальник отвечал: «Какие вещи? Их тогда же возвратили назад». Двусмысленный сей ответ расстроил утешительную мысль о существовании наших пленных. Японца нашего также приняли, как и прежнего: не пустили его ночевать в селении. И он провел ночь в траве против нашего шлюпа. Продолжать столь неудовлетворительные переговоры посредством наших японцев, не знающих русского языка, оказалось вовсе бесполезным. На посланные от нас на японском языке в разные времена письма от начальника не получили мы ни одного письменного ответа. И, по-видимому, ничего более не оставалось нам делать, как опять удалиться от здешних берегов с мучительным чувством неизвестности.
Японца Леонзайма, знающего русский язык, отправить на берег для переговоров с начальником острова я не решался без крайней необходимости, опасаясь, что ежели он будет задержан на острове или сам не захочет возвратиться оттуда, то мы потеряем в нем единственного переводчика, и потому я вознамерился наперед употребить следующий способ. Я признал возможным и правильным, не нарушая мирного нашего к японцам расположения, пристать нечаянным образом к одному из Японских судов, проходящих по проливу, и без употребления оружия схватить главного японца, от коего можно было бы получить точное известие об участи наших пленных, и чрез то освободить себя, офицеров и команду от тягостного бездейственного положения и избавиться второго к острову Кунаширу прихода, нимало не обещавшего лучших успехов в предприятии. Ибо опыт совершенно уверил нас, что все меры к достижению желаемого конца были бесполезны.
К несчастию, в продолжение трех дней ни одно судно не появлялось в проливе, и мы думали, что их судоходство по причине осеннего времени прекратилось. Оставалась теперь последняя неиспытанная надежда на Леонзайма, то есть отправить его на берег для получения возможных сведений, а дабы изведать расположение его мыслей, я прежде объявил, чтоб он написал письмо в свой дом, ибо шлюп завтра пойдет в море. Тогда он весь в лице изменился и, с приметною принужденностью поблагодарив меня за уведомление, сказал: «Хорошо, я напишу, только чтоб меня домой более не дожидались». И потом продолжал говорить с жаром: «Самого меня хоть убей, больше я не пойду в море, мне уже ничего теперь не остается, как умереть между русскими». С такими мыслями человек не мог для нас быть ни в каком случае полезным; ожесточение его чувствований нельзя было не признать справедливым, ведая шестилетнее его в России страдание. И я даже опасался, чтоб он, лишась надежды возвратиться в свое отечество, не покусился в минуту отчаяния на жизнь свою, и потому должен был решиться отпустить его на берег, дабы он, зная подробно все обстоятельства несчастного с нами происшествия, представил начальнику в настоящем виде теперешний наш приход, и преклонил его вступить с нами в переговоры.
Когда я объявил о сем Леонзайме, то он поклялся непременно возвратиться, какие бы ни получил сведения, если только начальник силою его не задержит. Для такого сбыточного случая я взял следующую осторожность: вместе с Леонзаймом я отправил другого японца, бывшего уже один раз в селении, и снабдил первого тремя билетами: на первом написано было «Капитан Головнин с прочими находится на Кунашире»; на втором – «Капитан Головнин с прочими отвезен в город Матсмай, Нагасаки, Эддо»; на третьем – «Капитан Головнин с прочими убит». Отдавая сии билеты Леонзайму, я просил его, ежели начальник не позволит ему к нам возвратиться, отдать соответствующий полученным сведениям билет с отметкою города или другого примечания сопровождающему его японцу.
4 сентября высажены они были на берег. На другой день, ко всеобщей радости, увидели мы обоих их возвращающихся из селения, и тотчас послана была от нас за ними шлюпка. Мы ласкались надеждою, что Леонзаймо доставит нам наконец удовлетворительное сведение. Не упуская их из глаз, в зрительные трубки усмотрели мы, что другой японец поворотил в сторону и скрылся в густой траве, а на посланной шлюпке приехал к нам один Леонзаймо. На вопрос мой, куда ушел другой японец, отвечал он, что того не знает.
Между тем все мы с нетерпением ожидали услышать привезенные им вести. Но он изъявил желание сообщить мне их в каюте, где при лейтенанте Рудакове начал пересказывать, с какою трудностью был он допущен к начальнику, который, будто бы не дав ему ничего выговорить, спросил: «Для чего капитан корабля не приехал на берег держать совет?» Леонзаймо отвечал: «Не знаю, а меня теперь он прислал к вам спросить у вас, где капитан Головнин с прочими пленными». Между страхом и надеждою ожидали мы сделанного ему на сей вопрос начальником ответа, но Леонзаймо, запинаясь, начал осведомляться, не поступлю ли я с ним худо, если он будет говорить правду. И получив от меня уверение о противном, объявил нам ужасную весть в следующих словах: «Капитан Головнин и все прочие убиты!»
Такое известие, поразившее всех нас глубокою печалью, произвело над каждым то естественное чувствование, что мы не могли далее взирать равнодушно на берег, где пролита кровь наших друзей. Не имея от начальства никакого предписания, как поступить в таком случае, признавал я законным произвесть над злодеями возможное по силам нашим и, как мне казалось, справедливое мщение, быв твердо уверен, что наше правительство не оставит без внимания такого со стороны японцев злодейского поступка. Мне надлежало только иметь вернейшее доказательство, нежели одни слова Леонзайма. Для сего я послал опять его на берег, чтоб он испросил у японского начальника письменное тому подтверждение. При сем Леонзайму и оставшимся четырем японским матросам обещано было совершенное освобождение, когда мы решимся действовать неприятельски. Между тем приказал я на обоих судах быть в готовности к нападению на японское селение.
Леонзаймо хотел в тот же день возвратиться, но мы его не видали. В следующий день он также из селения не показывался, дожидаться долее его возвращения было совсем безнадежно. Дабы удостовериться в ужасной истине о смерти наших пленных, которая невозвращением Леонзайма сделалась, к великому нашему утешению, сомнительною, я принял уже твердое намерение не оставлять залива, пока не представится удобный случай захватить настоящего японца с берега или с какого-нибудь судна, чтоб выведать сущую правду, живы ли наши пленные.
6 сентября поутру увидели мы едущую японскую байдару. Я послал на двух гребных судах лейтенанта Рудакова завладеть оною, назначив под его команду двух офицеров – господ Среднего и Савельева, вызвавшихся добровольно к сему первому неприятельскому действию. Посланный отряд наш вскоре возвратился с байдарою, которою он овладел подле самого берега. Бывшие на ней японцы разбежались, а токмо два из них и один мохнатый курилец пойманы были господином Савельевым на берегу в густом тростнике, от которых, однако ж, мы не могли получить никаких сведений касательно наших пленных. Когда я начинал с ними говорить, они тотчас падали на колени и на все мои вопросы отвечали с шипением: «Хе, хе!» Никакие ласки не могли их сделать словесными животными. «Боже мой, – подумал я, – каким чудесным образом возможно нам будет вступить когда-нибудь в объяснения с сим непостижимым народом?»
На другой день поутру усмотрели мы идущее с моря прямо в залив подле противулежащего от нас берега большое японское судно, навстречу коему послал я гребные наши суда с вооруженными людьми под командою лейтенанта Филатова со строгим, однако ж, предписанием не употреблять оружия, а одною только острасткою стараться остановить судно, и привести на шлюп начальника оного. Чрез несколько часов усмотрели мы, что наши шлюпки пристали к японскому судну без всякого видимого сопротивления и стали буксировать оное к месту, где мы стояли на якоре. Лейтенант Филатовов, прибывши на шлюп, донес мне, что, приближаясь со шлюпками к японскому судну, увидел он на нем множество людей, казавшихся вооруженными; и как судно на делаемые знаки не опускало парусов, то он принужденным нашелся выпалить из нескольких ружей на воздух.
Тогда японцы опустили тотчас парус, и по весьма близкому от берега расстоянию некоторые из них бросились в воду и пустились вплавь к берегу. Случившиеся вблизи наших шлюпок были гребцами перехвачены, прочие же выплыли на берег или потонули. На судне всех японцев было 60 человек.
Вскоре привезен был на шлюп начальник судна. Богатое его шелковое платье и сабля с другими знаками показывали, что он должен быть человек значащий. Я тотчас позвал его к себе в каюту. Он, сделав мне по своему обыкновению униженное приветствие, по приглашению моему со спокойным и веселым видом сел на стул. Я начал выученными от Леонзайма японскими словами составлять ему вопросы и узнал, что он называется Такатай-Кахи[91], и по-японски имеет звание синдофнамоч, т. е. начальник и хозяин нескольких судов; по его объявлению, у него было их десять. Со своим же судном шел он с острова Итурупа в гавань Хакодаде на острове Матсмае, груз его состоял в сушеной рыбе, и противный ветер заставил его спуститься в Кунаширский залив. Дабы мог он поскорее уразуметь, какое было наше судно и для чего пришли мы к Кунашииру, я дал ему прочитать оставленный список с японского письма, писаного Леонзаймом к начальнику острова.
Прочитав письмо, сказал он вдруг: «Капитан Мур и пять человек русских находятся в городе Матсмае». Потом начал пояснять, в котором месяце они были вывезены из Кунашира и чрез какие города их вели. Исчислял, в каком месте сколько времени они проживали, и даже описывал рост и другие отличительные признаки господина Мура. Одно только то обстоятельство не допускало нас предаться с полною доверенностью овладевшему нами чувству радости, что он ничего не упоминал о господине Головнине.
Весьма естественно, что самое положение попавшегося к нам в руки начальника японского судна заставляло его говорить, что наши пленные живы. Но как он мог внезапно в одну минуту выдумать сии подробности? С другой стороны, трудно было понять и поступок Леонзайма: что могло его понудить сказать нам такую прискорбную для нас ложь? Разве непогасшая еще в душе его искра мщения к русским за причиненные от Хвостова на японских берегах насилия? Ибо, если б он опасался объявить, что наши пленные живы, для того только, чтоб его самого после на шлюпе не задержали, то он мог бы от сего освободиться еще в первый день, прислав с сопровождавшим его японцем роковой билет, а сам остался бы на берегу. Впрочем, может быть, злобный начальник острова и действительно дал Леоизайму такой ответ, что все наши пленные убиты, и уже невозвращение Леонзайма должно было тогда приписать одной его боязни наших людей, озлобленных извещением о смерти их соотечественников.
Из всех сих соображений хотя ничего известного не представлялось, однако с большим правдоподобием заключать надлежало, что все наши пленные действительно живы, и потому я не смел уже при таких счастливо переменившихся обстоятельствах помышлять о противных чувствованиям моим распоряжениях, т. е. о произведении над селением мщения. Но команда, встревоженная первым извещением о смерти любимого своего начальника, также офицеров и своих сотоварищей, не могла остаться в покое. Некоторые из них объявили вахтенному офицеру, что в начальнике японского судна признают они того самого чиновника, который был на острове Итурупе, где мы имели прошлым летом первое с японцами свидание, куда ездили господа Мур и Новицкий. Да и сей последний подтвердил, что находит в нем великое сходство с виденным им на острове Итурупе чиновником, и помнит весьма хорошо, что имя Мура японским чиновником было записано. «Следовательно, – говорили служители, явившиеся все по моему приказанию на шканцы, – неудивительно ему знать господина Мура, о коем он беспрестанно твердит, не упоминая ни слова о нашем начальнике Василии Михайловиче; наши пленные, верно, убиты, и мы все единодушно готовы пролить за них нашу кровь, если угодно вам будет произвесть над злодеями мщение».
Хотя я внутренне и одобрял приверженность их к несчастному нашему начальнику, но объявил им, что мы имеем теперь более вероятных причин думать, что наши пленные живы, нежели воображать противное, а сверх того, если вышнее начальство совершенно уверится в истине произведенного злодеяния над нашими пленными, то, без сомнения, не упустит доставить нам случай на самом деле оказать каждому свое усердие.
С сей минуты, решась прекратить неприятельские действия, я положил, взяв с собою сего провидением посланного нам японского начальника[92] Такатая-Кахи, идти в Камчатку для зимования, надеясь разведать у него основательнее об участи наших пленных и о намерении японского правительства. Он мне показался не из числа тех японцев, которые у нас бывали, но высшего состояния, следовательно, мог быть более сведущ в делах своей земли, а потому я объявил ему, чтоб он приготовился следовать с нами в Россию, и объяснил причины, побуждающие меня так поступить. Он весьма хорошо меня уразумел, и несколько раз, перебивая мои слова, когда я упоминал, что капитан Головнин, Мур и прочие, по объявлению начальника острова, все убиты, отвечал мне: «Неправда, капитан Мур и пять человек русских живы, здоровы и содержатся хорошо в городе Матсмае, они пользуются свободою ходить по городу за присмотром только двух чиновников».
На сделанное же ему предложение следовать с нами в Россию с удивителыиым спокойствием духа отвечал он: «Хорошо, я готов». Просил только, чтоб его в России не разлучали со мною, в чем я его и уверил, а равно и в том, что в следующее лето будет он возвращен в свое отечество. Тогда он совершенно примирился с неожиданною своею участью, а как оставшиеся на шлюпе четыре японца, не знавшие ни слова по-русски, не могли быть для нас полезны и притом одержимы были цинготною болезнью, то я, опасаясь вторичным зимованием в Камчатке подвергнуть жизнь их опасности, признал справедливым доставить им то же счастье, которым воспользовались ушедшие их товарищи. Снабдя всем нужным, высадил я их на берег. Они, как я думал, по своему простодушию сохранят чувствие благодарности за оказанные им нами благодеяния и распространят между своими соотечественниками лучшее о русских мнение, нежели каковое имели они прежде.
На место отпущенных четверых японцев я вознамерился взять такое же число с японского судна под тем видом, якобы они нужны для услуг своему начальнику, и предложил ему, чтоб он указал, кого ему будет угодно выбрать из своих матросов себе для услуг, и выбранным приказал перебраться на шлюп, но он вместо согласия упрашивал меня не брать матросов, говоря, что они глупы, чрезвычайно боятся русских и будут много сокрушаться. Настойчивые его просьбы немного поколебали меня в прежней уверенности о действительном пребывании наших пленных в городе Матсмае, и потому я решительно сказал ему, что мне должно взять четырех человек с его судна. Тогда он просил уже меня только о том, чтобы я вместе с ним съездил на его судно.
По прибытии нашем на оное собрал он всю свою команду к себе в каюту, сел, поджавши ноги, на постланную на простом чистом мате длинную подушку, пригласив и меня сесть подле себя. Матросы стояли все перед нами на коленях. Он говорил им длинную предварительную речь, изъясняя, что некоторые из них должны следовать с ним вместе на российском корабле в Россию. Тут открылось самое чувствительное явление; многие из матросов приблизились к начальнику с поникшими головами, что-то шептали ему с приметным душевным усилием, и у всех почти появились на глазах слезы. Сам он, доселе сохранявши спокойствие и твердость духа, прослезился; и я был в нерешимости, произвести ли мое намерение в действие. Необходимость, однако ж, требовала исполнить оное, дабы после от каждого порознь отобрать подтверждение о действительном пребывании наших пленных в Матсмае. К немалому моему утешению, я не имел причины раскаиваться впоследствии, ибо японский начальник, по своему состоянию привыкший к особенному роду жизни и изнеженный азиатской роскошью, подвергся бы великому беспокойству и нужде без своих японцев (двое из них после безотлучно при нем находились по очереди).
Потом просил я начальника, выразумевшего, для чего я беру его с собою в Россию и какие за несколько дней до его прихода сообщены были нам чрез Леонзайма от начальника острова известия об участи соотечественников наших, отписать к нему обо всем с возможною подробностью. Он при мне же изготовил весьма длинное письмо, расспрося у меня подробно об упомянутых выше обстоятельствах, также об имени нашего судна, о времени прихода в Кунашир, и кто таков Леонзаймо и проч.
После сего Такатай-Кахи с избранными матросами своими начал к нам перебираться, как будто на собственный свой корабль, а не с видом пленника, отправляемого в дальнюю страну. Все возможные способы употреблены были нами, чтоб удостоверить японцев, что мы не считаем их за враждующий, но за миролюбивый народ, с которым доброе согласие прервано токмо некоторыми неблагоприятными обстоятельствами. В сей же день по приглашению моему с помянутого судна приезжала к нам японская женщина, неразлучная спутница Такатая-Кахи в его плаваниях от города Хакодаде, где его жительство, до Итурупа. Весьма любопытно было видеть ей шлюп наш и странных людей, а еще более, ласки неприятелей своих, каковыми они нас полагали, и дружеское обращение наше с ними.
Не меньше и для нас было любопытно видеть японскую женщину. По приезде ее на шлюп приметно было, что она очень оробела: я тотчас просил Кахи ввести ее ко мне в каюту и сам взял ее за другую руку. У дверей она хотела было по японскому обычаю скинуть соломенные свои башмаки, но как у меня в каюте не было ни ковров, ни матов, то я знаками дал ей разуметь, что такая странная для нас учтивость может быть оставлена. Войдя в каюту, она положила обе руки на голову ладонями вверх и низко нам поклонилась; я подвел ее к креслам, а Кахи указал ей, что надобно в них сесть. Для такой неожиданной посетительницы, к счастью, случилась у нас на фрегате молодая, довольно пригожая женщина – жена нашего младшего лекаря. Японка, увидевши ее, казалась много ободренною и сделалась веселою, и они тотчас познакомились. Приветливая наша россиянка старалась ее занять тем, что всем почти женщинам нравится, – показыванием своих нарядов.
Японка, по-видимому, была большая модница, рассматривала все с великим любопытством, некоторые одеяния на себя надевала и изъявляла свое удивление приятною улыбкою. Но более всего она казалась пораженною белизною нашей россиянки, прикасалась руками к ее лицу, как будто подозревая, не искусственный ли у ней цвет, и, улыбаясь, часто повторяла: «Иоой, идой!», т. е. «Хороша, хороша!» Заметив, что японка любуется новым нарядом, я, чтоб угодить ей, поднес зеркало, как вдруг взоры ее поразились противуположностию ее лица со цветом позади ее, как будто нарочно стоявшей нашей белой россиянки. Она с искренним добродушием, отталкивая зеркало руками, говорила: «Варий, варий!», т. е. «Не хороша, не хороша!»
Напротив, она довольно приятная женщина, лицо у нее было смуглое и несколько продолговатое с правильными чертами, рот маленький со светящимися под черным лаком ровными чистыми зубами; брови узенькие, черные, гладкие, как будто кистью проведенные, лоснились над такого же цвета пламенными без впадин глазами; волосы самые черные, в виде тюрбана причесанные, без всякого головного украшения, кроме черепаховых воткнутых гребенок. Роста она среднего, собою тонка и довольно стройна. Одеяние ее состояло из шести шелковых, на самой тонкой вате, похожих на наши халаты, широких платьев; каждое было подпоясано особым кушаком очень низко. От пояса книзу платье было в обтяжку; каждое особливого цвета, а верхнее было черное. Разговор ее был протяжен, голос томный; все вместе с выразительною физиономиею производило приятное впечатление. От роду, по-видимому, она не могла иметь более восемнадцати лет. Мы ее угощали хорошим цветочным чаем с пряниками; она пила и ела с приметным удовольствием. При отъезде сделаны ей некоторые подарки, которыми она была очень довольна.
Прощаясь, я посоветовал нашей россиянке с нею поцеловаться; японка, заметив ее намерение, встретила ее поцелуем и много смеялась. От нас она поехала прямо в селение на той самой байдаре, которая была изготовлена отвезти письмо Кахи к начальнику острова.
Я полагал наверное, что коль скоро начальник острова получит настоящее объяснение, с каким намерением задержано нами японское судно, то пришлет письменный ответ, ежели не ко мне, по крайней мере к Такатаю-Кахи, и даже надеялся, что сам Леонзаймо, если задержан в селении, прислан будет для переводов, о чем начальник японского судна написал особую от имени моего записку. Но совсем противные нашим ожиданиям последствия дали нам уразуметь, что японское правительство запретило частным своим начальникам вступать с нами в переговоры, ибо вместо ответа на другой день в шедшую с берега нашу шлюпку с водою выпалили из четырех пушек ядрами. Несмотря на сие, я о показании Кахи не переменил своего мнения и пустую их пальбу презирал, решившись, как выше сказано, идти в Камчатку и узнать от него обо всем подробно, не желая скорым каким-либо предприятием испортить впоследствии главное дело.
При наставшем тогда благополучном ветре приказал я сделать сигнал сняться с якоря. Пред сим Такатай-Кахи просил меня, чтоб я позволил его матросам приехать осмотреть наш корабль. С согласия моего они все по очереди у нас перебывали, любопытствовали знать употребление каждой новой для них вещи, особенно поражала их наша оснастка; смелые лазили на марсы, а отважнейшие даже на салинг. Я приказал сводить их в мою каюту. Войдя в нее, делали они такие же знаки почтения, как бы я сам в ней находился. Там поднесли им из серебряной чарки русской водки, отчего они сделались еще смелее и веселее, начали знаками объясняться с нашими матросами, пленялись суконным нашим одеянием, светлыми пуговицами и цветными шейными платками, которые выменивали у наших матросов на свои японские безделицы. Такатай-Кахи, увидев на шканцах несколько порожних бочонков, предложил наполнить оные водою со своего судна, тотчас его матросы забрали все наши пустые бочонки и привезли их наполненные хорошею свежею водою. Приятно было видеть людей, почитавшихся за несколько часов нашими врагами, в таком с нами дружестве. Сии добрые японцы, простившись с нами, поехали на свое судно с песнями.
К вечеру шлюп и бриг «Зотик» пошли в море, а из селения тотчас открылась со всех батарей пальба из пушек ядрами. Там, вероятно, заключили, что мы вступили под паруса с тем, чтобы приблизиться к селению с неприятельским намерением. По причине весьма дальнего расстояния такая пустая пальба ничего кроме смеха не могла в нас возбудить, чему также и японский чиновник много смеялся, говоря: «Кунашир – худое место для русских, Нагасаки лучше». За противным ветром мы простояли следующий день в проливе на якоре расстоянием от селения не меньше пяти миль и нарочно смотрели в зрительные трубы, не возвратится ли к японскому судну посланная пред сим в селение и там задержанная байдара. Но начальник судна сказал: «Пока российский корабль не уйдет совсем из виду острова, байдара будет оставаться задержанною в селении».
11 числа сентября оба судна снялись с якоря и стали лавировать, взявши курс прямо на полуостров Камчатки. На сем переходе мы много потерпели от жестоких бурь, которые в такое позднее время года бывают здесь весьма опасны, как и во всех местах, под большими широтами лежащих. А 12 числа находились мы в крайней опасности, одна лишь только рука провидения могла нас избавить от конечной гибели. Около полудня в тот день начал дуть жестокий ветер, который впоследствии превратился в ужасную бурю; тогда была у нас под ветром гряда низменных островов, лежащих между Матсмаем и Чикотаном. Казалось, что шлюп хорошо выдерживал большие паруса, и мы имели изрядный ход. Не взирая однако ж на сие нас приметным образом прижимало течением к помянутым островам. Мы не надеялись отстояться на якоре при великом волнении, шедшем по направлению ветра с открытого океана между островами Кунаширом и Чикотаном, и были в самой крайней опасности потерпеть кораблекрушение.
С каждою минутою видели, замечая по лоту, приближение свое к опасным низким островам. К трем с половиною часам пополудни глубина от 18 сажень уменшилась до 13, нас несло боком к оным островам. В сем бедственном положении решились мы прибегнуть к последнему средству для отвращения гибели – стать на якорь, что мы и сделали. Но как якорь не задержал, то на глубине, уменьшившейся еще на 2 сажени при песчаном с каменьями грунте, бросили другой якорь. Несмотря на сие шлюп против жестокого волнения стоял бортом, и якоря тащились по дну. Тотчас спустили стеньги и все реи вниз. К великому счастью нашему, после сего якоря забрали и шлюп остановился на двух якорях. Таким образом провидению угодно было во второй раз спасти нас от очевидного бедствия.
Начальник японского судна, живший со мною вместе в каюте, доставлял мне удобный случай почасту с ним объясняться. Долго я домогался узнать от него об участи капитана Головнина. Он вслушивался со вниманием в чин и фамилию и всегда отвечал: «Не знаю». Ведая, сколь мало внятны русские фамилии для японского слуха, старался я разным образом фамилию Головнина изворачивать и наконец приведен был в величайшую радость, когда он со мною повторил в восторге: «Ховорин!» «Я слышал, – продолжал он, – что он также находится в Матсмае. Японцы почитают его российским данмьио, т. е. первостатейным чиновником». И после добрый мой японец стал описывать, как ему пересказывали видевшие Головнина японцы: что он высокого роста, важного вида, не так, как капитан Мур веселого, и не любит курить табак, хотя определено давать ему самого лучшего. «Мур же, – говорил он, – любит курить трубку и довольно хорошо разумеет японский язык».
Столь совершенное описание отличительных качеств наших соотчичей освободило нас от всякого сомнения, и мы благодарили провидение, пославшее нам в японце сем радостного вестника. Сверх сего восхищался я и тем, что не покусился на произведение отчаянного предприятия против японцев, внушенного мне ложными и злонамеренными объявлениями Леонзайма о наших пленных. Я узнал, что пленник наш всякой год ходил на остров Итуруп, отвозя туда разные товары из Нифона, а оттуда возвращался с грузом рыбы, но для меня весьма было удивительно, что он не знал Леонзайма. Полагая, что может быть, неправильно произносимо было мною его имя, я показал ему в записной моей книжке собственною его рукою написанное его название и место его рождения – город Матсмай.
Он, прочитав, весьма явственно сказал, что купца такого имени на Иткрупе никогда не бывало, что он знает нынешних и бывших хозяев оного острова, и пересказал мне их имена. Тогда вздумал я повторить все присвоенные Леонзаймом имена, как то: Нагачема, Томогеро, Хородзи. Такатай-Кахи, остановясь наконец на последнем, с удивлением и смехом воскликнул: «Хородзи знаю. И он называл себя в России оягодою[93]?» – «Да, – отвечал я ему, – мы также от него слышали, будто бы он обладал великим имением». – «Да он никогда не имел и простой байдары, – возразил мой японец, – его звание у прежних хозяев было батиин, т. е. смотритель за рыбными промыслами; и как он умел хорошо писать, то и отправлял все письменные дела; уроженец он княжества Намбу, а не Матсмая, и женат на дочери мохнатого курильца».
Произнеся последние слова с презрением, он сделал знак рукою по своей шее для показания, что Леонзайму за присвоенное звание японского чиновника, если узнают в Японии, отрубят голову. Такое нечаянное открытие о самозванце Леонзайме обнаружило мне то, что посылаемые от нас на берег к начальнику острова японцы действовали, вероятно, по его коварным наставлениям в удовлетворение его мщению. Впрочем, невозвращение японца с письмом и уход сопровождавшего Леонзайма в селение я неправильно приписывал, как ныне оказывается, боязни его возвратиться на шлюп. По объяснению начальника японского судна, законом запрещается подданных Японии, бывших более одного года в чужой земле, по каким бы то ни было случаям допускать по возвращении их в отечество к своим семействам, а отсылаются они в Эддо для исследования их поведения, где, как мы полагали, и остаются большею частью на всю жизнь, лишенными всей надежды жить вместе со своими домашними. Наши японцы пробыли в Камчатке один только год, следовательно, уход их надлежит приписать сей только одной причине.
Отплыв от бурных японских берегов, мы на высоте Курильских островов, находясь в виду пролива Буссоль, названного по имени фрегата знаменитого мореплавателя Лаперуза, воспользовались случившеюся ясною, довольно приятною погодою для определения некоторых мест астрономическими наблюдениями. Мы нарочно проходили сим обширным проливом в Охотское море и, обозрев западную часть нескольких островов, к северу от сего пролива лежащих, вышли опять в восточный океан новым проходом между островами Райкоке и Матау. Не находя его названия ни на каких морских картах, мы наименовали его проливом Головнина в честь нашего несчастного капитана, бывшего предметом наших плаваний по сим морям.
22 сентября открылись высокие сопки (погасшие вулканы) Камчатского полуострова, вершины коих покрыты уже были снегом. Но на низменных местах оттенялась еще приятная для глаз зелень, и температура воздуха была довольно теплая. Наш Кахи признавался, что в плаваниях его к островам Итурупу и Урупу случалось ему видеть в это время года на берегах более снегу, и холод бывал ощутительнее. Приближаясь с благоприятным ветром ко входу в Авачинскую губу, мы льстились надеждою в следующий день войти в Петропавловскую гавань. Но переменившийся ветер прямо с берегу удалил нас в море, и мы после величайших трудностей, быв в третий раз весьма близко к берегу, в одну мрачную ночь едва было не претерпели кораблекрушения.
Не прежде 3 октября вошли мы в гавань. Здесь нашли мы три судна: одно было охотский транспорт, пришедший из Охотска с провиантом; а другие два, под американскими флагами, принадлежали гражданину Соединенных Американских Штатов господину Добеллу. На обоих сих судах груз, принадлежавший оному же господину Добеллу, положен был частью в Кантоне, частью в Манилле, куда они заходили на пути своем из Кантона в Камчатку. На одном из сих судов и сам господин Добелл прибыл в звании капитана с благонамеренными видами восстановить давно желанную для здешнего края с Китаем и другими изобильными соседственными странами торговлю.
Главная моя забота была поскорее свезти на берег нашего доброго японца, казавшегося весьма утомленным и даже печальным, как я думал, от беспокойств продолжительного неблагоприятного нашего плавания. Но объяснившись, после узнал я от него совсем другую причину. Когда мы, принимая поздравления от приезжавших к нам на шлюп с берега офицеров и прочих приятелей, вместе с ними радовались оконченной кампании, тогда наш японский начальник начал тревожиться о своей участи. Ему представлялось, по законам земли своей, что и его также, подобно нашим в Японии, будут содержать в строгом заключении. Сколь же велико было его удивление, когда он увидел себя помещенным не токмо в одном со мною доме, но и в одних покоях!
12 октября, отслужив на шлюпе благодарственный молебен за троекратное спасение от погибели, казавшейся неизбежною, офицеры и команда перебрались на берег.
Таким образом окончилась первая наша к японским берегам кампания, предпринятая для освобождения капитана Головнина с товарищами его несчастия. Плоды оной состояли в том, что мы от взятого в плен и привезенного нами Такатая-Кахи узнали, что оные соотечественники наши живы. Такое полезное и радостное для нас известие мы почитали немалым для себя приобретением и награждением трудов своих.
Зимование в Камчатке. – Нрав, поступки и обращение плененного нами Японца по имени Такатай-Кахи. – Сведения, полученные от него о наших пленных и о Японии. – Отправление шлюпа из Камчатки и прибытие к Кунаширу. – Странный поступок Такатая-Кахи и понятие японцев о чести. – Расположение начальника крепости вступишь с нами в переговоры. – Я посылаю одного из японцев на берег; он возвращается и доставляет мне официальную бумагу от японских чиновников. – Кахи отправляется на берег и возвращается с приятным известием, что японцы решились начать с нами переговоры. – Доставление к нам своеручной записки капитана Головнина, из коей узнали мы, что они все живы. – Прибытие из Матсмая значащих чиновников для переговоров с нами, которые и производились посредством Такатая-Кахи. – Свидание с одним из пленных наших матросов, который доставляет мне письмо от господина Головнина, тайно от японцев сим матросом привезенное. – Требования японского правительства; согласие мое удовлетворить оным, на каковой конец я отправляюсь в Охотск. – Прибытие в сей порт, занятия наши в оном и приготовления к третьему походу, предпринимаемому нами для освобождения наших пленных.
Привезенный нами японский начальник Такатай-Кахи, производя во всех портах своего отечества более 20 лет обширную торговлю, что подтверждалось его познаниями в мореплавании, долженствовал быть человек известный своему правительству. Отлично благородное его обращение доказывало, что он принадлежит к образованному классу людей. Сделавшись принужденно виновником настоящей его участи, не усматривал я в нем, к утешению моему, ни малейшей печали или уныния. Напротив, в спокойствии духа питался он тою патриотическою мыслию, что по возвращении в свое отечество будет в состоянии доказать, что со стороны нашего правительства никогда не было противу Японии неприязненного намерения, и ручался своею жизнью, что посредством посольства в Нагасаки освобождение наших пленных неминуемо последует.
Имея в своих руках такого просвещенного и искренне расположенного вспомоществовать освобождению наших пленных японца, я терзался мыслию, что не было при мне переводчика японского языка, находящегося в Иркутске, которого нельзя было за отдаленностью прислать в Камчатку прежде будущего лета. При великом с обеих сторон желании объясняться мы с ним в продолжение зимы составили свой язык, на котором без затруднения разговаривали иногда даже об отвлеченных предметах. Тогда пересказал я ему в точном виде все недоразумения и ошибки, бывшие причиною неудовольствия японцев, неудачу посольства нашего в Нагасаки и проч.
Такатай-Кахи рассказал, что все жители Японии, узнав о прибытии русских кораблей в Нагасаки и о том, что с Россиею утверждены будут коммерческие связи, весьма обрадовались, но последовавший за тем крутой перелом решительным отказом нашему послу произвел во всей Японии великое негодование на ее правление. Такатай-Кахи, сообщая сведения о своем отечестве и изъявляя желание, чтоб между Япониею и Россиею утвердилась торговля, неоднократно восклицал: «В несчастии моем признаю я Божий промысел, избравший меня своим орудием. Не имея никаких важных причин идти в Кунаширский залив, по случаю заехал я туда, не бывав в нем более пяти лет, и сделался виновником уничтожения вашего решительного намерения напасть на селение; следовательно спасителем жизни нескольких десятков русских и нескольких сот японцев. Эта мысль меня оживляет, и я надеюсь при всей слабости моего здоровья перенесть суровость Камчатского климата».
Внимание и соболезнование, которое ему от всех россиян оказываемо было, толико подействовали над сердцем сего благородного человека, что он день и ночь о том только и думал, как бы доставить отечеству своему такое известие о народе, взявшем его в плен, какого не приносил еще никто из японцев, бывших в России. Будучи по воспитанию своему и по образу мыслей гораздо сведущее предшественников своих, он ясно видел, что польза отечества его, о котором никогда не мог равнодушно вспоминать, требовала миролюбивого окончания вражды, возникшей между Россиею и Япониею от случаев непредвиденных и без соучастия главных правительств.
Он понимал, что на стороне любимого его отечества будет вред от сей вражды, а потому и старался всемерно объяснить нам странность японских неприязненных поступков, которых причины мы не постигали, равным образом и то, какие у них непреложные законы и обычаи, по незнанию которых иностранец может произнести о них ложное суждение. Он уверял, что японцы, поступая с нами неприятельски, не имели и не имеют в виду заводить совсем бесполезные для них ссоры с соседнею и великою империей, но по некоторым читателю уже известным законопротивным поступкам наших соотечественников, за несколько годов на берегах их бывших, они имели достаточно причин заключать о неприязненности России к Японии и чрез то принужденными нашлись почесть народ наш себе враждебным, чего, конечно бы, не последовало, если бы Япония по примеру других государств имела сношение с соседственными правительствами.
И как они, по законам земли своей, сего не имеют, то и нельзя им было узнать, по повелению ли правительства приходившие на их берега суда под русским флагом неприятельски действовали или совсем без ведома оного. А потому японское правительство решилось употребить сии насильственные меры, признаваемые впрочем во всей Японии несоответствующими правилам военных законов, но основанные на желании получить от российского правительства в сих происшествиях объяснение.
«Я уверен, – говорил он, – что одного свидетельства иркутского губернатора в том, что правительство не участвовало в поступках Хвостова, довольно будет для доставления русским пленным освобождения». Все, что говорил сей добрый и честный Кахи, не были одни пустые слова, вымышленные им для получения себе свободы. Впоследствии мы на опыте уверились в истине оных: он послужил нам орудием к скорому и счастливому прекращению распрей между двумя государствами, выдаче захваченных наших пленных и к постановлению на предбудущее время некоторых условий, которые, хотя и невелики, но сделаны вопреки коренным постановлениям империи. Обо всех сих обстоятельствах писал я к охотскому начальнику, представляя, чтоб он испросил по сему предмету официальное письмо от иркутского губернатора к губернатору матсмайскому, рассчитывая зайти за сим письмом в Охотск. Такатай-Кахи брался лично вручить письмо сие матсмайскому губернатору и доставить в Кунашир (куда обещано было его отвезти) решительный ответ и известие об участи всех наших пленных. Таков был план предстоявшей кампании.
До половины зимы здоровье Кахи было в хорошем состоянии, но смерть двух его матросов произвела в нем большую перемену: он сделался задумчив, угрюм, начал жаловаться на слабое свое здоровье, уверял лекаря, что у него в ногах цинготная болезнь, и утверждал, что она ему будет стоить жизни. Но истинною причиною его печали было желание воротиться скорее в отечество и опасение, чтоб в Охотске, куда надлежало заходить, его не удержали. Наконец он открыл мне свое подозрение. Видя, что от благополучного возвращения Такатая-Кахи в отечество зависит все: как освобождение наших, так, может быть, и восстановление с Япониею коммерческих связей, я решился, не дожидаясь ответа из Иркутска, отвезши его прямо в Японию. И когда объявил я ему об этом, он призвал к себе оставшихся своих двух матросов, сказал им свою радостную весть и просил меня, чтоб я оставил его на время с матросами. Вышед в другую комнату, я полагал, что набожный Такатай-Кахи желает молиться Богу, как обыкновенно, без свидетелей, но вместо того он скоро вышел из своей комнаты в парадном своем платье и при сабле вместе со своими матросами и начал изъявлять мне свою благодарность. Будучи изумлен сим неожиданным явлением и тронут чувствительностью доброго японца, я уверил его в точном исполнении своих обещаний.
В апреле месяце, когда надлежало заниматься приготовлениями шлюпа к походу, я получил от иркутского губернатора поручение привести в исполнение в звании камчатского начальника высочайше утвержденное новое образование Камчатки, и по случаю отправления моего к японским берегам доверил временное управление Камчатки господину лейтенанту Рудакову[94].
6 мая лед был прорублен и шлюп выведен на рейд в Авачинскую губу, а 23 мая отправился из сей губы в предпринятый путь. Через двадцать дней благоприятнейшего плавания прибыли мы благополучно к оконечности острова Кунашира и стали на якорь в заливе Измены в таком же, как и прошлым летом, расстоянии от укрепленного японского селения. По совету Такатая-Кахи велено было двум его матросам приготовиться ехать на берег. Селение прежним порядком завешено было полосатою материею. С батарей из пушек по шлюпу не палили и по всему берегу не видно было никаких движений.
Когда наше гребное судно для отправки японцев на берег было изготовлено, тогда оба японца пришли ко мне в каюту, чтоб изъявить за увольнение свое благодарность и принять от своего начальника разные поручения к главному начальнику острова. При сем случае я сказал Такатаю-Кахи, что, отпуская его матросов на берег, надеюсь, что они принесут от Кунаширского начальника на его письмо ответ с обстоятельным извещением о настоящей участи всех наших пленных, и спросил его, ручается ли он в их возвращении. Он отвечал: «Нет!» – «Как нет? – спросил я, – Разве тебе неизвестны законы твоей нации?» – «Известны, да не все». – «Когда так, – сказал я, обращаясь к его матросам, – то объявите кунаширскому начальнику от моего лица, что если он вас на берегу задержит и не пришлет ко мне никаких известий об участи наших пленных, то я должен буду признать сей поступок неприятельским и вашего начальника повезу с собою в Охотск, откуда нынешнего же лета придут сюда несколько военных судов требовать вооруженною рукою освобождения наших пленных. Назначаю сроку только три дня для обождания здесь ответа».
При сих словах Такатай-Кахи изменился в лице, однако с довольно спокойным духом начал говорить: «Начальник императорского судна (так он величал меня во всех важных разговорах)! Ты объясняешься с жаром, твое послание к кунаширскому начальнику чрез моих матросов заключает много, а по нашим законам мало. Напрасно угрожаешь ты увезти меня в Охотск. Ежели двух моих матросов начальник вздумает на берегу удержать, то не два, а две тысячи матросов не могут меня заменить. Притом предваряю тебя, что не в твоей будет власти увезти меня в Охотск, но об этом объяснимся после, а теперь скажи мне, действительно ли ты решился на таких условиях отпустить моих матросов на берег?» – «Да, – сказал я, – иначе как начальник военного корабля я не смею и подумать при таких трудных, на меня возложенных поручениях и ужасом скрытых обстоятельствах» – «Хорошо! – отвечал он, – Так позволь мне сделать, может быть, последнее и весьма нужное наставление моим матросам и словесно уведомить обо мне кунаширского начальника, ибо ни обещанного письма, ни какой-либо записки теперь я с ними не пошлю». Он несколько оправился, принял на себя важный вид и потом продолжал: «Ты довольно разумеешь по-японски, чтоб понимать все, что я в простых словах буду говорить своим матросам. Я не хочу, чтоб ты имел право подозревать меня в каком-либо дурном намерении».
Его матросы, сидевшие на коленях, приблизились к нему с поникшими головами и внимательно слушали его слова. Сначала наставлял он их в обрядах, как должно будет явиться к кунаширскому начальнику; потом подробно исчислил им, в которой день привезены они были на российский корабль, как были содержимы, когда прибыли в Камчатку, что жили в одних со мною покоях и получали хорошее содержание; что оба японца и мохнатый курилец померли, несмотря на все старания врача; что ныне шлюп поспешно отправлен в уважение его болезни прямо в Японию и пр. Он повторял им несколько раз, чтоб они все сие безошибочно пересказали кунаширскому начальнику, и заключил величайшею обо мне похвалою, упоминая, с какою заботливостью я всегда входил в их положение, что он сам, как на корабле, так и на суше, жил со мною вместе, и все, что только можно, по его желанию ему было доставляемо. Наконец пред своим образом в глубоком молчании помолился он Богу, поручил более им любимому из обоих матросов доставить свой образ его жене и отдал ему же большую свою саблю, которую называл родительскою, для того чтоб ее вручить единственному его наследнику и сыну.
По исполнении всего этого он встал и со спокойным, даже веселым видом попросил у меня водки попотчивать при прощании своих матросов, выпил вместе с ними и проводил их вверх, не давая им никаких более поручений. На нашей шлюпке отвезли их на берег, и они беспрепятственно пошли в селение.
Обряды, совершенные нашим японским начальником при его прощании с матросами, и значительное изречение: «Не в твоей будет власти увезти меня в Охотск» – привели меня в великое смущение. Возвращение японских матросов казалось мне совсем безнадежным; я мог удержать в виде аманата озлобленного японского начальника, но не в моей власти было воспрепятствовать исполнению его смелого изречения. Я долго не мог решиться отпустить его на берег, ибо чрез то лишился бы всей надежды к освобождению наших пленных, однако ж, сообразив все обстоятельства, увидел я, что в пользу наших пленных должно избрать последнее средство. Притом вознамерился я, если уволенный на берег японский начальник не воротится, идти сам прямо в селение.
Несколько зная японский язык, нетрудно было бы мне во всем объясниться, и притом я имел в виду, что если наши пленные живы, то участь их от сего не сделается хуже; когда же они все убиты, тогда всему делу и моим мучениям конец. Я объявил о сем намерении старшему по себе офицеру, которого нужно было заблаговременно наставить для пользы службы в исполнении неоконченных мною некоторых служебных, обязанностей.
Утвердившись в этом мнении, сказал я нашему японскому начальнику, что он может ехать на берег, когда ему угодно, ибо я во всем полагаюсь на его великодушие, и прибавил, что его невозвращение будет стоить мне жизни. «Понимаю! – отвечал он. – Тебе без письменного свидетельства об участи всех ваших пленных нельзя воротиться в Охотск, да и мне нельзя подвергнуть своей чести малейшему бесславию, иначе как на счет моей жизни. Благодарю за твою доверенность, но я и прежде не имел намерения ехать в один день со своими матросами на берег; это по нашему закону для меня неприлично, а завтра поутру, ежели тебе угодно, прикажи меня отвезти поранее на берег». – «Приказывать не нужно! – был мой ответ. – Я сам отвезу тебя». – «Итак, – сказал он с восторгом, – мы опять друзья! Теперь я объясню тебе, что значило отправление моего образа и родительской сабли на берег, но прежде выговорю тебе с тою откровенностью, с какою я триста дней с тобою как друг обо всем объяснялся, что твое словесное послание к кунаширскому начальнику чрез моих матросов для меня было чрезвычайно оскорбительно.
Угрозы твои о приходе сюда нынешнего лета с военными судами до меня собственно не касались, но когда ты объявил свое намерение увезти меня с собою в Охотск, то я приметил, что ты подозреваешь во мне обманщика, подобного Городзию. Признаюсь, я едва мог верить, чтоб сии оскорбительные моей чести слова были произнесены тобою. Удивительно для меня было, что ты в триста дней мне ничего не говаривал в сердцах, между тем как я по своей горячности неоднократно и без всякой почти причины бывал в жестоком гневе, а в нынешний день при таком важном случае ты допустил гневу овладеть твоим рассудком и чрез то в несколько минут приуготовил меня сделаться злодеем и самоубийцею. Национальная наша честь не позволяет человеку моего звания быть в чужой земле пленником, каковым ты хотел меня сделать при объявлении своего намерения увезти меня с собою в Охотск. В Камчатку я с тобою отправился согласно с моим желанием, о чем и главному нашему правлению известно, ибо я особенно писал в Кунашир, по каким причинам вооруженные шлюпки с российского военного корабля овладели моим судном. Одни матросы были тобою взяты против их воли.
По превосходной твоей силе я находился тогда в твоих руках, но жизнь моя всегда была в моей власти. После всего этого объявлю тебе тайну моих намерений: я твердо решился, видя тебя непоколебимым в твоих предприятиях, свершить над собою убийство В доказательство исполнения сего я отрезал у себя на голове клок волос[95] и положил их в ящик моего образа. Сие по нашим законам означает, что тот, от кого присланы собственные его волосы, лишил себя жизни с честью, т. е. распорол себе брюхо. Над волосами свершается такой же обряд погребения, как и над самим покойником. Когда ты называешь меня другом, то я от тебя ничего не скрою: озлобление мое дошло до такой степени, что я даже хотел убить тебя и твоего старшего офицера и потом иметь утешение объявить об этом твоей команде!»
Какие возмутительные для европейца понятия о чести! Японцы почитают такое дело величайшим подвигом; память подобного героя прославляется вместе с уважением к оставшемуся его семейству. В противном же случае дети бывают преданы изгнанию из места своего рождения.
Вот с какими ужасными замыслами жил в одной со мною каюте человек, на коего я взирал как на искреннего своего друга и засыпал покойно! Выслушав сие с такими движениями чувств, каковые обыкновенно бывают при размышлении о минувшей опасности, я сказал ему, что мне удивительно его ограничивание в избрании мщения, когда в его власти было совершить полное мщение над жизнью всех нас зажжением крюйт-камеры[96]