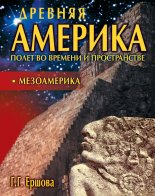Местечковый романс Канович Григорий

— Все готовы ехать?
— Да, — послышалось в ответ.
— Гиршке переночует у меня, — сказала бабушка. — А вы поезжайте с Богом!
— Кстати, о Боге, — лицо Шмулика расплылось в улыбке. — До отъезда в Москву я ещё успею сделать доброе дело — выступить в одном лице в роли попа, ксендза и раввина и обвенчать мою сестру Полину Дудак с Василием Каменевым, а чуть позже — и Мейлаха Цукермана и его несравненную Малгожату Бжезинскую. Все документы уже готовы. Можете поздравить их с супружеством и пожелать долгой счастливой жизни.
— Мазл тов! — провозгласила мама. — Как только потеплеет, устроим под открытым небом общую свадьбу!
— Мазл тов! — поддержали её все, после чего стали понемногу расходиться.
Мы остались с бабушкой вдвоём. Медленно догорал в лампе керосин. В глубине комнаты чернела сапожничья колодка, и на ней, как памятник деду, стоял чей-то ботинок с высокими отворотами. Спать мне не хотелось, и я стал помогать убирать с праздничного стола пустые тарелки. Бабушка, погружённая в раздумья, долго ни о чём меня не спрашивала, но вдруг с тихой яростью промолвила:
— Может, ты, Гиршеле, мне ответишь, зачем евреям нужны офицеры?
Я не знал, что ей сказать.
— С кем это, сам подумай, мы собираемся воевать? С турками? На кой еврею офицерские курсы? Барон Ротшильд нажил своё богатство не военными операциями, и погоны он не носил. Виленский гаон[52] рабби Элиёгу кроме Моисеева закона — Пятикнижия — никогда никакого оружия в руках не держал.
— Не держал, — постарался я угодить ей, хотя ничего не знал ни о Виленском гаоне, ни о бароне Ротшильде.
— Ты недавно закончил четвёртый класс. Что собираешься делать дальше? Учить Тору в Тельшяйской ешиве не хочешь, быть портным, как твой отец, не желаешь. Кем же ты собираешься стать?
Я пожал плечами.
— Может, подрастёшь и, как твой дядя Шмуле, тоже подашься в советские офицеры?
— Нет.
— От этих твоих слов у меня полегчало на душе. Еврей на чужой земле никем не должен командовать, кроме своей законной жены и детей.
Бабушка принялась мыть посуду.
— Послушай, золотко, — рассуждала она вслух, сливая в ведро воду, — а может, тебя пристроить к парикмахеру? Я поговорю с Наумом Ковальским, нашим родственником. Мотл, ты ведь знаешь, женат на его Саре. Единственное, что у каждого человека растёт всегда, — это волосы. Волосы, Гиршеле, прямо-таки клад, — бабушка продолжала говорить скорее себе, чем мне, совсем забыв о тяготах египетской неволи и о том, чем эта пасхальная ночь отличается от всех других ночей. — Так как? Поговорить со сватом Наумом?
— Я с родителями посоветуюсь. Идти или не идти?
— Куда?
— За этим самым кладом.
— Если ты будешь так шутить, то останешься нищим, как покойный Авигдор Перельман.
Справившись с посудой и не достигнув согласия в споре о моём будущем, мы легли спать.
В постели меня никто не допрашивал, кем я буду, и я уснул крепким, без видений, сном.
Бабушка разбудила меня рано утром, и мы отправились в Бейт кнессет а-гадоль.
Народу там было много — яблоку негде упасть. Теперь сюда стекались богомольцы из всех малых синагог, которые новые власти закрыли.
Все ждали, что скажет рабби Элиэзер. Он ведь всё-таки с той стороны — «немец» из Тильзита.
— Из одной неволи мы тысячи лет тому назад вышли. Давайте молить Господа Бога, чтобы Он никому не позволил ещё раз загнать нас в другую неволю, которая может оказаться куда страшнее, чем египетское рабство, — начал торжественно рабби.
И вдруг, нарушив эту возвышенную проповедь, со своей скамьи из третьего ряда вскочил хромоногий маляр Ейне. Хриплым голосом, подпорченным многолетним пристрастием к спиртному, он на весь Бейт кнессет а-гадоль громко сказал:
— Ребе! Это правда, что ваши земляки скоро нападут на Литву и перережут всех евреев?
В синагоге зашумели, загалдели. Ропот осуждения смешался с криками одобрения.
— Тихо! — призвал всех к порядку рабби Элиэзер. — Еврей, у которого нет ни к кому вопросов, это, простите, вообще не еврей. Человек спрашивает, правда ли, что на нас нападут и перережут? Ему надо не затыкать рот, а ответить. — Он прерывисто задышал и, забыв о пасхальной проповеди, возгласил. — Это, если хотите знать, не просто правда, а тысячелетняя правда! Кто только на протяжении веков не нападал на нас и не стремился истребить наш род — и греки, и римляне, и турки, и арабы, и русские казаки. Почему же на нас не могут напасть немцы? Могут и напасть, и перерезать. Очень даже могут. Как в Польше. Как во Франции.
Богомольцы не верили своим ушам. Тихий рабби Элиэзер, отец шестерых детей, вдруг превратился в безбоязненного воина. Кто-кто, а он не понаслышке знал, на что способны немцы. В прошлом иностранец, потом литовский подданный, а ныне гражданин СССР, рабби Элиэзер несколько раз бывал в Германии, в Гамбурге, и собственными глазами видел, чем погромная Хрустальная ночь[53] отличается от всех других ночей.
— И что же, ребе, нам делать? — послышался чей-то голос. — Молитвами их не испугаешь.
— Другого оружия у меня, увы, нет, — сказал рабби Элиэзер. — А если бы оно и было, я бы им не воспользовался. Божие творение нельзя убивать. Нет такого греха, который сравнится с убийством. Кто убивает невиновного, тот отпадает от рода человеческого и увеличивает поголовье диких зверей. Молитесь, и Господь ниспошлёт всем на земле мир и покой, — вдохновенно закончил он и сошёл с бимы, прижимая к груди свой щит — Тору в кожаном переплёте.
Встревоженные прихожане долго не расходились — обсуждали во дворе то, что сказал рабби Элиэзер.
Бабушка Роха, любительница послушать краем уха умных людей, поздоровалась с доктором Блюменфельдом и, словно пациентка, интересующаяся состоянием своего здоровья, спросила:
— А что вы, доктор, скажете о немцах, ведь они наши смертельные враги?
— Что я скажу? — не сразу нашёлся, что ответить, Ицхак Блюменфельд. — К несчастью, есть соседи, от которых никак нельзя отгородиться и которых, как бы нам с вами этого ни хотелось, по-доброму не выселишь в Африку или на Северный полюс. Они же, в отличие от нас, мечтают только об одном — как бы собрать всех евреев и скопом переселить на кладбище.
Евреи Йонавы всполошились и приуныли, узнав, что рабби Элиэзера после его пасхальной проповеди вызвали на допрос в НКВД. Мало ли что власти вздумается сделать, чтобы заткнуть рабби рот? Да ещё возьмут и закроют Бейт кнессет а-гадоль…
Допрашивали рабби Элиэзера майор Воробьёв и его заместитель по оперативной части Самуил Семёнович Дудак — Шмулик.
— Как нам стало известно из достоверных источников, вы, уважаемый, в своих проповедях агитируете прихожан против дружественного нам германского государства. Будем вам очень признательны, если впредь вы поостережетесь в выражениях и ограничитесь только вопросами вашего вероучения.
Шмулик медленно, с некоторыми самовольными сокращениями, переводил, а майор Воробьёв, изображая доброжелательного и воспитанного человека, внимательно слушал.
Рабби Элиэзер спокойно, с достоинством ответил:
— Моя вера, господин офицер, обязывает меня не лгать ни себе, ни своим прихожанам. Я всегда и везде говорю то, что думаю, а не то, что кто-то повелевает мне против моей совести и воли. За все свои слова я отвечаю перед Господом Богом. Только перед Ним, единственным. В противном случае моя служба, посвящённая Ему, потеряла бы всякий смысл.
— Это очень хорошо, — согласился Воробьёв. — Но не забудьте, что кроме Господа Бога на свете есть и другие судьи. Порой более суровые. Приятно было познакомиться. Вы свободны.
Как ни старались власти снять напряжение и успокоить жителей местечка, крепнущее ощущение близкой развязки — столкновение русских с «дружественными» немцами — постепенно нарастало и усиливалось не только из-за допроса рабби Элиэзера, но и потому, что Йонаву вдруг в массовом порядке стали покидать жёны и дети русских офицеров. Они возвращались на родину. Майор Воробьёв тоже отправил своих супругу и сына в Мордовию.
Отец не раз допытывался у своего нового родственника Василия Каменева и ещё неженатого старшего лейтенанта Фишмана, чем объяснить это скоропалительное перемещение, не связано ли оно с угрозой немецкого вторжения на территорию Литвы. Оба, словно сговорившись, уклончиво отвечали: дело, дескать, в том, что в Литве не хватает русских школ и с жильём пока сложно, строят черепашьими темпами, и вообще, как известно, дома лучше, чем в гостях.
Неоспоримое доказательство того, что всё идёт к войне, неожиданно получил в конце апреля Юлюс. Он принёс в швейную мастерскую приклеенную к парадному входу в дом Эфраима Каплера листовку, которую во время утренней уборки улицы обнаружил его родитель — дворник Антанас.
— Я не великий грамотей, — признался Юлюс. — Но от того, что там написано, мне стало страшно. Там про вас, про евреев.
Он протянул листовку своему учителю.
Отец подержал её в руке, глянул на текст, напечатанный на пишущей машинке, и вернул Юлюсу.
— Ты ведь учился в литовской школе, — сказал отец. — Прочти ещё раз и расскажи нам вкратце — что там про евреев? Читать по-литовски я, к сожалению, так и не научился. Говорить ещё с грехом пополам могу, а вот с вашими буквами не очень подружился.
Юлюс положил листовку на стол и первым делом перевёл на идиш заглавие:
— Фронт литовских активистов.
— Солидная фирма, — усмехнулся отец.
— Воззвание, — добавил Юлюс.
Из его корявого перевода отец и Мейлах поняли, что евреев за их долголетние грехи ждёт окончательное жестокое возмездие. Указ великого князя Витаутаса о праве евреев селиться в Литве и заниматься торговлей и ремёслами вскоре будет отменён. Каждый еврей должен в кратчайший срок покинуть её пределы, а если за кем-то числится какое-нибудь преступление против независимой Литвы и кто-то предпримет попытку укрыться, найти убежище и скрыться от правосудия, то долг всех честных литовцев собственными силами задержать такого, а в особых случаях немедленно привести над ним в исполнение суровый и справедливый приговор.
— Всё? — спросил отец.
— Всё, — с облегчением вздохнул Юлюс. — Я не знаю, кто это написал и приклеил. Но поверьте, я к этому не имею никакого отношения и совершенно не согласен с тем, что здесь говорится! Я, наоборот, за то, чтобы в Йонаве по соседству с нами всегда жили евреи. Всегда.
— Порви эту подстрекательскую пачкотню в клочья и выбрось в помойное ведро! — презрительно сказал отец и добавил: — Не слишком ли рано начали сводить с нами счёты и праздновать победу немецкие прислужники?
— Может быть, эту чушь всё-таки не выбрасывать, а показать кому-нибудь из начальства? — пробасил Мейлах. — Не вовремя пан Самуил в Москву уехал учиться.
— Вовремя он уехал или не вовремя, не имеет никакого значения. Чем бы, по-вашему, пан Самуил, как вы его величаете, помог, останься он в Йонаве? Утешил бы нас, лишний раз напомнил о мощи Красной армии? — отозвался отец и добавил: — Мужчины нашего рода пятьсот с лишним лет прибивали подмётки и шили одежду на этой земле, и вдруг… Нам приказывают вместе с жёнами и детьми убираться отсюда вон, не сметь искать убежища, бросить свои дома и могилы своих предков.
— Но ведь это пока что только угрозы, — попытался успокоить самого себя Мейлах.
— Не пустые угрозы. Не сомневаюсь, что немцы одобрили и благословили их осуществление.
22 июня 1941 года предрассветную тишину в Йонаве, настоянную на запахах не отцветшей в палисадниках сирени и парного молока, которое ещё вчера разносили в вёдрах по всему местечку бойкие молочницы-крестьянки, взорвали бомбы.
Первой от этого невообразимого, оглушительного грохота проснулась мама. Она распахнула настежь окно и глянула на светлеющее небо, исполосованное грозными сполохами далёкого пожара. Прислушиваясь к раскатам непонятного, неутихающего грома, мама вдруг увидела приближающуюся эскадрилью самолётов со свастикой на бортах. Они летели над густыми грибными перелесками, за которыми в Гайжюнай располагалась часть Красной армии. Оттуда на сонное местечко почти без всяких интервалов одна за другой продолжали накатывать волны мощных взрывов.
Взволнованная мама стала будить отца. Тот что-то забормотал во сне, заворочался с бока на бок, натянул на голову одеяло и зарылся в подушку, но мама упрямо продолжала колотить его кулачками и приговаривать:
— Вставай, Шлеймке! Вставай!
— Что случилось? — спросил он, спросонья укоризненно уставившись на жену.
— Война!
— Какая война? Что тебе привиделось?
И тут, как бы в ответ на его вопрос, за окнами снова загрохотало, и небо прошили трассирующие очереди. Казалось, безумец-портной забрался на одинокое облако и без передышки строчит и строчит на швейной машине.
— Это, Хенка, на самом деле кошмарный сон. Все ждали, когда же немцы и русские столкнутся лбами. И вот грянуло! Столкнулись!
— По-моему, больше всех этого ждали сами литовцы, которые в отличие от нас, евреев, в основном опасались прихода русских, а не немцев. За себя я не боюсь, а вот за Гиршке очень… Ему ещё жить и жить.
— Он и будет жить. Только ты проследи, чтобы парень в эти дни никуда не выходил из дома. И сама зря не высовывайся. Сейчас каждый неверный шаг может стоить жизни.
— За ним я, конечно, прослежу, а вот что делать с беспомощными Коганами? Без опеки они совсем пропадут. Старики уже еле передвигаются. Рувима, представь себе, я даже веду под руку в туалет. Им надо помочь раздеться и лечь в кровать. Сами могут только поднести дрожащей рукой ложку ко рту.
— Жалко их, но что поделаешь? Сейчас, как бы это жестоко ни звучало, каждый должен думать и заботиться о самих себе и своих стариках, а не об этих несчастных Коганах. Моя мама, наверное, из Йонавы никуда не двинется. Что бы ни случилось, она, Роха-самурай, ни за что не расстанется со своим Довидом. Обручила жизнь, говорит она, обручит и смерть.
Пока они, понизив голос, переговаривались и прикидывали, за что в первую очередь надо взяться — то ли немедленно складывать чемоданы, то ли ещё немного выждать — чья сила перевесит, бомбардировка армейской части в Гайжюнай не утихала ни на миг, а становилась всё сильнее и яростнее. Валы грохота обрушивались на местечко, и жители не знали, куда деться от этого ужаса.
— Бедный Валерий Фишман! — вдруг вспомнила старшего лейтенанта из Гомеля мама. — Не погиб ли он?
— Все мы бедные. Если Красная армия не остановит немцев, нам придётся убираться отсюда. Другого выхода у нас нет. Ноги в руки — и в путь-дорогу! — сказал отец.
— Куда?
— Туда, где нет немцев.
— Может, до нас они всё-таки не доберутся. Шмулик говорил, что Красная армия — самая сильная в мире. Даст отпор любому врагу. Её никому не удастся одолеть.
— Мало ли что говорил твой шустрый братец! Тоже мне нашелся специалист в военном деле! Да он пехотинца от летчика не отличит, — отрубил отец.
Мама и отец не заметили, как рассвело.
Улицы Йонавы, которые обычно с утра наполнял самый разношёрстный люд, были пусты. На дверях магазинов висели пудовые замки. Не видно было ни одного богомольца, который спешил бы на утреннюю службу в костёл или синагогу. Только бездомные собаки гонялись за такими же бездомными кошками, пытающимися спрятаться от них в подворотнях.
Время от времени по опустевшим улицам местечка с рёвом проносились армейские машины, которые перевозили раненых танкистов из Гайжюнай в Каунас в окружной военный госпиталь.
— У меня такое впечатление, что с сегодняшнего дня вся наша прежняя жизнь отменяется, — невесело сказал отец. — Видно, портному, если он останется в живых, придётся на время или, может, навсегда распрощаться со старым ремеслом.
Родители ненадолго замолкали, пытаясь упрятать в молчание своё уныние и растерянность. Сменяя друг друга, они то и дело подходили к окну, но перед ними открывалась одна и та же картина — грозящая Бог весть какими непредвиденными опасностями пустота.
Только в полдень кое-где открылись литовские лавки и магазины. Из-за полного безвластия и хаоса евреи-лавочники, опасаясь расправ и погромов, отсиживались дома, как в окопах. Опасения их были не беспочвенными. То тут, то там на улицах стали появляться группы парней с белыми повязками на рукавах, заменивших стражей порядка из ведомства, где служил Шмулик Дудак. Пока немецкие части вели бои вдали от Йонавы, эти молодые люди скрывали свои намерения, никого не трогали, только пристально всматривались в каждого прохожего, определяя на глаз по его внешности принадлежность к еврейскому племени, от которого они в патриотическом угаре обязались в срочном порядке избавить многострадальную Литву.
Над двухэтажным кирпичным зданием горисполкома ещё, правда, развевался красный флаг, а по вымощенной булыжником главной улице иногда в неизвестном направлении проезжала машина с русскими солдатами.
Юлюс и Мейлах явились невыспавшиеся, подавленные. Да и сам отец не мог прийти в себя после предрассветной бомбардировки. Работа не ладилась. Можно ли спокойно вдевать нитку в иголку и шить, когда поблизости на голову падают бомбы, пылают пожары и гибнут люди?
— Ко всем бедам прибавилась ещё одна беда, — сказал Мейлах, как бы извиняясь за то, что немного опоздал. — Для пани Антанины эта война уже закончилась. Ночью, под канонаду, она тихо скончалась.
— Святая была женщина! За всю жизнь никого ни разу не обидела. Когда похороны? — спросил отец.
— Малгожата рано утром побежала в костёл, чтобы договориться с ксендзом, который хорошо говорит и по-польски, — сказал Мейлах. — Антанина прожила такую долгую жизнь, и надо же — некому её похоронить и оплакать.
— Одиночество — та же могила, только вырытая собственными руками. Если обстановка не ухудшится, мы, может быть, всё-таки зайдём на пять-десять минут на кладбище и проводим Антанину в последний путь, но ручаться не буду, — сказал отец. — Русские бегут, а немцы наступают им на пятки. Не сегодня-завтра они займут Йонаву. Ломаю голову, как поступить с заказами? Их столько, что ни за месяц, ни за два мы с ними ни за что не справились бы. Не оставлять же чужое добро на произвол судьбы или на разграбление мародёрам. Не лучше ли всё неначатое и недошитое вернуть заказчикам и заняться собой?
— Вот и Малгожата! — воскликнул Мейлах, увидев в дверях свою кохану.
— Похороны пани Антанины во вторник, — сообщила она с порога. — Так решил пан ксёндз Вайткус. Все хлопоты и расходы по её захоронению берёт на себя костёл.
— Мы до вторника вряд ли останемся в Йонаве. Хенка мне уже житья не даёт, настаивает, чтобы немедленно сложили пожитки, запаслись едой и уезжали отсюда. Иначе, говорит, возьму Гиршке и отправлюсь с ним, а ты оставайся со своей швейной машиной.
— Женщины чувствуют опасность лучше, чем мужчины, — взял сторону хозяйки Мейлах.
— Против правды не попрёшь. Красная армия оказалась на бумаге сильнее, чем на поле боя. Немцы продвигаются к Каунасу и почти не встречают сопротивления. Что начнётся, когда они войдут в Йонаву, вы знаете по своему опыту. — Отец облизал пересохшие губы и обратился к Юлюсу: — Вот тебе, дружок, волноваться нечего. Ты ведь, если можно так выразиться, был не постоянным, а временным евреем. Тебя, крещёного, победители не тронут, а мы с Мейлахом как постоянные и необратимые евреи должны хорошенько поразмыслить, когда и куда нам податься, чтобы не попасть в руки к немцам или их добровольным помощникам. Ясно?
— Ясно, — ответил Юлюс. — А чем мне прикажете заниматься? Сидеть и смотреть, как вы в дорогу собираетесь?
— Пока мы тут думаем, вы с Хенкой раздайте клиентам то, что мы уже не успеем сшить в обещанные сроки. Извинитесь перед ними, а заказчикам-католикам посоветуйте обратиться к Пранасу Гайдису. Он замечательный мастер. Берёт недорого, а руки у него, я бы сказал, еврейские. Сошьёт на загляденье. Кое-кому я сам отнесу отрезы и заодно попрощаюсь.
Когда мама и пригорюнившийся Юлюс отправились разносить по адресам раскроенные и не раскроенные отрезы, отец и Мейлах сели за стол и стали прикидывать, куда им двинуться, какой путь для беженцев более надёжен.
Мейлах после недолгих размышлений решил направиться через Вильнюс в Лиду, где жила двоюродная сестра Малгожаты — медсестра Тереза. Отец же не стал ссориться с женой — собрался, не мешкая, пробираться в Латвию, на узловую станцию Двинск, а оттуда — в глубь России, может, даже в Сибирь. До морозной Сибири немцы точно не доберутся.
Между тем ожесточённые кровопролитные сражения уже шли на подступах к местечку.
Времени на раздумья больше не оставалось. Жители Йонавы, кто пешком, кто на повозках, пустились в дальнюю, не предвещавшую им ничего хорошего дорогу.
Балагула Пейсах Шварцман и его брат-близнец Пинхас, тоже возница, были нарасхват. За место в телеге платили не отжившими свой короткий век рублями, заменившими изъятые из обращения литы, а серебром и золотом.
Отец договорился с угрюмым бобылём, большеголовым, крепко сбитым Пинхасом, который дружил с дедом Довидом и всегда чинил у него свою внушительного размера обувь. Среди балагул он выделялся набожностью и библейской силой, всегда носил под потрёпанным картузом вязаную ермолку и не то всерьёз, не то в насмешку убеждал всех своих седоков независимо от их национальности, что лошади не только жуют овёс и украшают лепёшками местечковую мостовую, но и верят в Господа Бога, своего Создателя.
— Сколько вас? — спросил Пинхас у отца, почёсывая широкую волосатую грудь.
— Трое.
— Одна троица ко мне уже напросилась. Сапожник Велвл Селькинер с женой и сыном. Опытные беженцы из Белостока, — сказал Пинхас. — Моя гнедая больше семи пассажиров с багажом не потянет.
— Какой уж там, реб Пинхас, у портного багаж? Иголка, напёрсток, пара катушек ниток да материал для пошива костюма на случай, если в тихом месте найдётся какой-нибудь заказчик, — сказал отец. — Швейную машину всё равно ведь не возьмёшь.
— Много чего не возьмёшь, — буркнул Пинхас. — Лучше, конечно, спасти от этих извергов человека, чем бесчувственное железо. Я взял бы ваш «Зингер», но моя старая телега — не двухкомнатная квартира.
— Не буду жадничать. Чего нельзя взять в телегу, то возьму в сердце. Там поместятся и небеса со звёздами, и поля, и быстроходная Вилия. Дай Бог только живыми добраться до тихого островка, — сказал отец.
— Дорога, Шлейме, это вам не Еврейский банк, она никому страховку не даёт. Сорок лет день за днём, кроме субботы, я езжу по всей Литве и не скрою от вас, что мне приходилось бывать в разных передрягах.
— Ещё бы! Ломовые извозчики — люди бывалые, хлебнувшие немало лиха.
— Бывалые или небывалые, а пассажиры платят деньги не за то, чтобы попасть в беду, а за то, чтобы их целёхонькими, без единой царапины доставили до места назначения, — заявил Пинхас. — Поэтому я беру с седоков деньги не в начале пути, а в конце. В Латвии, даст Бог, расплатитесь.
— Как вам будет угодно.
— Завтра с самого утра я подгоню свою телегу к дому реб Эфраима Каплера, прихватим по пути этого польского беженца с его семейством, помолимся, скажем на маме-лошн нашей скотине: «Вьо, вьо, старушка! Не подведи, довези нас с Божией помощью туда, где не льётся еврейская кровь!» — и, благословясь, двинемся.
Всю ночь отец не смыкал глаз.
До самого утра он сидел за «Зингером», подаренным ему на свадьбу реб Ешуа Кремницером, и вхолостую нажимал на педаль. Нажимал и что-то шептал.
Просыпаясь, я видел его сгорбленную спину. Тогда я никак не мог понять, что он в темноте так отчаянно и страстно шепчет своей швейной машине, но сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что с такой нежностью и неистовой страстью обычно шепчет что-то тот, кто вынужден навсегда расстаться с любимой женщиной.
Забрезжило утро.
Наступил прощальный день — 23 июня 1941 года.
Мама и отец сложили пожитки, два отреза английской шерсти и кое-какую еду, и мы отправились на Рыбацкую улицу прощаться с бабушкой Рохой.
Как отец ни умолял её, как ни уверял, что и ей найдётся место в телеге Пинхаса, бабушка твердила одно и то же:
— Кто на меня, старуху, зря пулю потратит? Немцы же не всех подряд убивать будут? Грех бросать мёртвых. Вчера я ходила в синагогу, чтобы помолиться о том, чтобы вас миновала беда. Помолилась и спросила рабби Элизера, что он собирается делать, ведь у него шестеро детей, а на пороге палач Аман[54]. Рабби долго молчал, раскачивался, как ясень на ветру, и наконец ответил, что, если в Йонаве останется хотя бы один еврей, безбожник или верующий, живой или мёртвый, неважно какой, он останется с ним. Вот и я останусь с моим Довидом. Не хочу быть для вас обузой.
Так отец её и не уговорил.
Провожал нас совершенно обескураженный Юлюс.
— Вы ещё вернётесь. Я буду молить Иисуса Христа, чтобы вы вернулись. Однажды утром проснусь, выползу из своего логова и вдруг в тишине услышу стрёкот: «Слава Богу, свершилось чудо — это понас Салямонас снова завёл свою машину и по-е-е-е-хал!..»
— Чудеса не раз спасали евреев от верной гибели, — сказал отец, — но Господь Бог за наши грехи отвернулся от нас. Спасибо, Юлюс, за надежду. Если останешься в Йонаве, не променяй иголку на винтовку, продолжай шить, пользуйся всем нашим на здоровье. Не бросай Джеки — корми и выводи гулять, но помни: пинчер по-литовски не понимает, а на идише при немцах даже с породистой собакой говорить опасно.
— Я что-нибудь придумаю…
— Кто бы мог предположить, что наступит день, когда мы позавидуем осиротевшей собаке, которой будет позволено дышать тем же воздухом, что и всем гражданам, и даже не запретят лаять на улице на немцев.
И тут произошло то, чего от Юлюса никто не ждал, — он прослезился.
— Счастливо, — сказал отец. — Повторяю, не изменяй иголке, я верю, что из тебя выйдет толк.
Они обнялись.
На телегу Пинхаса мы погрузились, когда в ласковой воде Вилии, как сбежавшая голышом с мостков крестьянская девушка, только-только начала купаться заря. Отец и дважды беженец Велвл Селькинер примостились впереди, я и Мендель, шестилетний сын сапожника, — посередине, а сапожничиха Эсфирь с баулами и моя мама — сзади. Все молчали. Казалось, слова навеки вышли из употребления — их заменила немота.
Сзади телеги болталось пустое ведро, и от его звона в сердце почему-то вкрадывалась смутная тревога.
Пинхас и его послушная лошадь сохраняли спокойствие. Балагула курил одну за другой козьи ножки и молча следил за колечками едкого дыма, которые, оскверняя целомудренную небесную синь, таяли в тёплом летнем воздухе.
Мимо телеги иногда со скрежетом проползали советские танки и нестройными рядами проходили потрёпанные в боях, завьюженные дорожной пылью красноармейцы в расстегнутых, не по уставу, гимнастёрках и тяжелых кирзовых сапогах. Солдаты с завистью косились на телегу.
— Что же со всеми нами будет? — причитал Селькинер. — Не успеешь где-нибудь обосноваться, согреть ноги, заработать на кусок хлеба, и вдруг в который раз услышишь: «Беги отсюда, пока цел!» Хотел бы я в конце концов знать, в чём всё-таки наша вина? В том ли, что моя мать Эстер-Рохл родила меня не литовцем, не татарином, а евреем?
— Ты к кому обращаешься? — посасывая очередную самокрутку, спросил Пинхас. — Ко мне или к моей лошади?
— К кому, к кому… — укорил балагулу сапожник Велвл. — Вы что, только сегодня на свет родились?
— Если к Господу Богу, то я тебе, дружище, вот что скажу. Он, как всякое начальство, любит, чтобы Его славили, превозносили, а не кляли и не досаждали бесконечными просьбами. Ведь от такого неисчислимого числа ходатаев можно свихнуться. Это раз. Родись ты литовцем или татарином, тебе и из твоего Белостока не надо было бы никуда бежать. Это два.
Преодолевая заторы и пропуская вперед усталых красноармейцев с полной выкладкой за плечами и оружием, пеших беженцев-евреев с их жалкой ручной кладью, наша семёрка медленно продвигалась к городишку Зарасай. В его окрестностях на Богом забытом хуторе Пинхас обещал сделать остановку, чтобы дать себе, седокам и гнедой передышку. Договоримся, мол, с хозяином хутора, старым знакомым Пинхаса Владасом Довейкой, перекусим чего-нибудь за небольшую плату, переночуем на сеновале и утром снова в путь.
На въезде в городишко телегу остановил военный патруль — два дюжих красноармейца с винтовками наперевес.
— Кто такие? — один из них, видно, старший по званию, обратился к вознице.
— Евреи, — ответил Пинхас и ехидно добавил: — Мы, как и ваша доблестная Красная армия, пока отступаем.
Солдату сравнение ломового извозчика очень не понравилось:
— Красная армия, к вашему сведению, не отступает, а временно отходит на позиции, которые лучше укреплены.
— Вот и мы тоже стараемся занять позиции, которые лучше укреплены. Временно бежим от немцев. Велвл, — возница ткнул задубевшим указательным пальцем в насмерть перепуганного Селькинера, — сапожник из Польши, он уже один раз убегал от немцев, этот черноволосый — портной, а это их жёны и сыновья.
Старший по званию красноармеец велел всем слезть с телеги и постоять на обочине. Когда мы выполнили приказ, он стал ворошить штыком сухое сено, выстилавшее дно телеги.
— Что вы ищете? — удивился Пинхас.
— Не ваше дело! Я перед каждым проезжим отчитываться не обязан.
— Если вы, товарищ солдат, ищете взрывчатку, то, Бог свидетель, в телеге её нет, — сказал Пинхас, изъяснявшийся на всех языках его седоков, населявших Литву. — Где вы видели еврея, который для полного счастья брал бы с собой в дальнюю дорогу такие несъедобные вещи, как бомба или взрывчатка?
Узкоглазому широкоскулому красноармейцу, наверное, уроженцу Бурятии или Якутии, до этого евреев видеть вообще не приходилось. Он недоверчиво оглядел нас, ещё раз потыкал штыком своей винтовки в сено и со снисходительным пренебрежением бросил Пинхасу:
— Езжайте! Но до России на этой заезженной кляче в такой телеге вы вряд ли доберётесь.
Да что там до России! Наш путь мог нелепо и обидно оборваться и закончиться горькими слезами ещё до того, как мы добрались бы до Зарасай, если бы не находчивость и не сообразительность моей практичной мамы.
В тот же день за сонной Утеной нас Бог весть на какой развилке снова остановил военный патруль.
— Сержант Улюкаев, — представился солдат в распахнутой шинели. — Куда путь держите?
— В Россию, — ответил Велвл.
— Отсюда, однако, до России далече. Лошадь ваша?
— Нет, — сказал сапожник.
— А чья?
— Хозяин на минуту отлучился. Он тут рядом, в перелеске, молится.
— Молиться — не мочиться. Можно прерваться. По приказу командования все повозки и лошади на всех дорогах Литвы, по которым двигаются наши войска, реквизируются для нужд Красной армии, — отчеканил сержант Улюкаев, высадил нас всех из телеги, по-хозяйски взял послушную гнедую под уздцы и повёл за собой.
Тут появился Пинхас.
— Этот товарищ хочет отнять у вас лошадь, — сказала на непонятном для солдата идише мама. — Пусть он вам сначала покажет приказ, что имеет на это право.
— Покажи приказ, — двинулся к сержанту Пинхас.
— Ишь, чего захотел — приказ! Может, ты ещё за свою клячу плату потребуешь?
— Кляча это или не кляча, она моя! — гаркнул взбешённый Пинхас и вцепился своими железными ручищами реквизитору в горло. Если бы их не разняли однополчане сержанта, Пинхас, наверное, придушил бы обидчика.
— Забери свою грёбаную кобылу! — хватая широко раскрытым ртом воздух, выругался Улюкаев и выпустил из рук узду.
К счастью, другие солдаты за него не вступились, и мы, не переставая хвалить Шварцмана за его бесстрашие и самоотверженность, продолжили свой путь дальше.
— Он же вас, реб Пинхас, мог убить, — отдышавшись от испуга, промолвил Велвл.
— А что мне оставалось делать? Моя скотина всю жизнь меня кормила. Без неё, без моей старушки, я давно бы умер от горя. Умер бы! Честное слово! Столько с ней вместе прожито и сколько вёрст с ней пройдено!
К хутору, окружённому купой каштанов, телега подкатила, когда на землю пали сумерки. Его хозяин, кряжистый, косая сажень в плечах, Владас Довейка когда-то в молодости работал в кузнице родственника Пинхаса. С тех пор балагула с ним подружился, нередко заезжал к нему в гости и на обратном пути привозил в Йонаву подарки — мёд и картошку, корзину черники или яблок, свежую сметану в большой глиняной крынке и бутыль пшеничного самогона, чистого, как слеза.
— Выпьешь стопку и станешь на год моложе, — говорил Довейка и чокался с ним по-братски.
От стопки самогона Пинхас не молодел, но дружбу с Владасом она укрепляла.
Когда все сели за стол, уставленный деревенскими яствами и питьем — жбаном хлебного кваса и графином первача, Довейка налил взрослым по рюмке самогона, а женщинам и детям квасу. Он предложил выпить за наше здоровье:
— Если все евреи убегут из Литвы, что, Пинхас, будет с воскресными базарами в Утене, Укмерге, Зарасай? — обратился он к вознице. — Кто будет покупать то, что мы выращиваем на наших полях, в садах и на огородах, разводим в прудах? Половину всего этого добра, а может, и больше, придётся выбрасывать или скармливать скотине.
— И тут евреи виноваты.
— Виноваты, — неожиданно нахмурился Довейка. — Чего ждали? Пока вас перебьют? Давным-давно, по-моему, вам надо было бы всем креститься. Жили бы вы, крещёные, вместе с нами и никакого горя бы не знали.
— Бог, понас Владас, создал не литовца, не немца, не еврея, а человека, но не указал места, где люди без всякой бирки на груди могли бы не опасаться за свою жизнь и где никто не убивал бы ближнего только за то, что у него на голове ермолка, а молится он Господу на родном языке.
— Это ты лихо закрутил, — сказал не привыкший к таким мудрёным речам Довейка. — Бога суди, не суди, Он свою пашню не перепашет. Давайте лучше выпьем ещё по чарке за то, чтобы вы целыми и невредимыми вернулись из России обратно. И чтобы старая еврейка на воскресном базаре в Зарасай подошла к моему возу и, близоруко щурясь на товар, как прежде, спросила у меня на нашем наречии: «А скажи, пожалуйста, твои яйца кошерные?»
Хотя всем было не до смеха, взрослые прыснули.
Трапеза шла к концу. Дородная жена Довейки, не проронившая за вечер ни одного слова, кроме «ешьте!», стала убирать со стола, а потом готовить на широком топчане и составленных в ряд крепко сбитых деревенских стульях постели.
Уже за полночь шестилетнего Менделя и женщин положили спать в горнице, а я вместе с мужчинами побрёл на сеновал.
Над хутором стелилась неправдоподобная, оглушительная тишина.
На небе светились яркие июньские звёзды.
Вокруг хутора, как рыцари, выстроились каштаны, которые извечно охраняли этот первозданный покой.
И не было в тот вечер на свете ни немцев, ни литовцев, ни евреев.
Были и вовеки веков, казалось, пребудут только пряно пахнущая скошенным сеном умиротворяющая тишь, только этот длящийся под звёздным покровом наяву сон, не осквернённый ни богопротивной ненавистью, ни кровопролитием.
Утром, перед тем, как нам отправиться в дорогу, Владас Довейка вместе с Пинхасом внимательно осмотрел отдохнувшую на конюшне гнедую.
— Не мешало бы твою кобылу перековать, — сказал после осмотра хуторянин. — Дорога дальняя, отлетит подкова, и тпру, приехали! С такой до Двинска не доедешь. Придётся задержаться, пока я по старой памяти её не подкую. Можешь быть уверен, сделаю, как надо, и гроша не возьму. Всё равно не поймёшь, какие деньги брать — рубли, литы, марки… Я потому и на базар не езжу, жду, когда все передерутся и выяснится, чей портрет на бумажках победит.
Довейка отвёл лошадь под навес, и вскоре мы услышали удары молота.
— Теперь я спокоен. Ты со своей гнедой не только до Двинска доберёшься, а, как Наполеон, в Москву въедешь, — сообщил этот мастер на все руки.
— Если вернёмся, мы тебя, Владас, отблагодарим. Евреи добро никогда не забывают. Может, потому, что нас всюду ненавистью потчуют. Такая уж нам досталась доля — привыкать к злу, как к собственному имени.
Владас проводил нас до большака. Какое-то время он молча шёл рядом с телегой, потом отстал и стал махать своей тяжёлой рукой. Пинхас в ответ поднял в воздух, как знамя, видавшую виды фуражку.