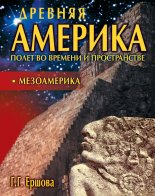Местечковый романс Канович Григорий

На исходе вторых суток нашего «отступления» в низине сверкнула река.
Ещё издали Пинхас увидел натянутый над водой канат и небольшой, сколоченный из сосновых досок паром с сигнальным колокольчиком под крохотным железным куполом, смахивающим на гриб-боровик.
К парому с осыпавшегося откоса вёл выстланный валежником — на случай ливня — пустой просёлок.
Паромщика не было видно.
Телега съехала вниз.
— Эй, кто-нибудь! — закричал возница.
— Эй! — возопила тишина. — Э-э-эй!
Через минуту из кустов вылез заспанный верзила с растрёпанными рыжими волосами.
— Чего орёшь? — он широко зевнул.
— Ты паромщик? — Пинхас подождал, пока мужик всласть назевается.
— Я, — промолвил тот, не переставая зевать.
— Перевезёшь на другой берег?
— Заплатите — перевезу, — выкатилось у паромщика сквозь неодолимую зевоту. — Гоните золото.
— Откуда мы его возьмём?
— Евреи без золота — не евреи. — Верзила прикрыл ладонью рот, как булькающий чайник крышкой и, подтянув штаны, двинулся обратно к кустам.
— Погоди! — закричал сапожник Велвл и стал снимать с пальца кольцо.
— Только с одним условием — колечко вперёд.
— Ладно, — выдавил Велвл.
Телега вкатила на настил. Верзила сунул кольцо в карман помятых штанов, дёрнул за проволоку сигнальный колокольчик, и паром со скрипом тронулся с места.
Когда паромщик вырулил на стремнину, появился немецкий истребитель.
— Прямо на нас летит, — отец глянул вверх.
Не успел он отвести взгляд, как небо брызнуло пулями.
Самолёт то снижался, то взмывал ввысь.
Казалось, лётчик затеял с нами дьявольскую игру — он метил не в людей, не в гнедую, а в натянутый над рекой канат, стараясь перебить его и насладиться тем, как паром, подхваченный течением, начнёт относить вниз по реке. Пули чиркали по настилу, по воде, по бокам парома, но немец не унимался.
Накрытые тёплыми телами родителей, мы с Менделем боялись пошевелиться.
Мужики, грузившие на другом берегу в телеги пряное сухое сено, побросали вилы и, коченея от страха, беспомощно смотрели на безоблачное, сеющее смерть небо.
Когда затея лётчику наконец удалась, неуправляемый паром стало быстро относить вниз по течению и вскоре прибило к противоположному берегу.
Паромщик, босой, с закатанными штанинами, неподвижно лежал под замолкшим колокольчиком, и по его небритому подбородку струилась тоненькая струйка крови. Пинхас сидел на корточках перед убитой лошадью и перебирал её гриву — мягкие, ещё живые волосы, как сломанные струны.
Очнувшиеся от страха мужики бегом пустились по косогору к воде, перекрестились при виде мёртвого, и, не проронив ни одного слова, зашагали к деревне. Через некоторое время они вернулись с лопатами, чтобы зарыть гнедую Пинхаса в тёплую землю — сняли с неё хомут, постромки. Сняли бы и уздечку, но Пинхас до их прихода накинул её себе на шею.
— А может, первым его? — стараясь не смотреть на распластанное поблизости тело, показала на паромщика мама.
— Зароем и Йонаса, никуда не денется, — прогундосил тщедушный мужичок с перевязанной щекой. — Свезём сено и зароем. Лошадь похоронить легче, чем человека. Лошадь отпевать в костёле и оплакивать не надо. Взял лопату, вырыл яму, засыпал, и вся недолга.
Пинхас с накинутой на шею уздечкой стоял на краю просторной могилы и вдруг под шлепки падающей глины начал чуть слышно бормотать кадиш.
— Что он делает? — ужаснулась богомольная Эсфирь, жена сапожника Селькинера. — Господь запрещает читать по лошадям или по другим животным кадиш.
— А кто, Эсфирь, сказал, что я читаю кадиш по лошади? Кто сказал? Разве мы не животные? Животные, животные… Домашние, дикие, всякие… — пробасил Пинхас и замолчал.
Оставшись без лошади и без телеги, мы выбрались на дорогу и побрели за отступающей в беспорядке нестройной колонной красноармейцев и группами беженцев к ближайшей латышской железнодорожной станции Резекне — Режице, надеясь попасть на проходящий товарный поезд и добраться до Двинска, а оттуда, если Господь Бог будет милостив, — в Россию.
Измотанные, подавленные неудачами солдаты смотрели на нас со смешанным чувством пренебрежительного превосходства и жалости. Такого наплыва евреев они никогда не видели. Иногда на коротких остановках и привалах кто-нибудь из красноармейцев из приличия заговаривал с беженцами, которые пристраивались к воинской колонне, не сулившей им полной безопасности, но тем не менее служившей надёжным прикрытием от вооруженных немецких пособников, в одночасье появившихся на территории, оставленной Красной армией. Добираться окольными дорогами до Резекне, когда евреев стали повсеместно и массово истреблять, было опасно даже в светлое время суток. Выстрелит из автомата или винтовки какой-нибудь тип, притаившийся в придорожном кустарнике, и баста.
Балагула Пинхас Шварцман умел объясняться, пусть и не так легко, как на родном идише, и с литовцами, и с русскими, ведь он долгие годы возил по городам и весям Литвы разноплеменный люд, но после гибели своей кормилицы-лошади он явно не желал вступать в разговоры и неохотно отвечал на вопросы. А тут, как назло, его стал донимать словоохотливый, похожий на школьника солдатик с гранатомётом на плече:
— Куда ж это вы, сердешные, собрались? В гости к тёще на блины?
— Мы не в гости собрались, а, как вы, от немцев убегаем, — в который раз сказал Пинхас.
— К вашему сведению, папаша, мы от немцев не убегаем, а по приказу верховного командования осуществляем плановое отступление на заранее подготовленные для обороны и контрнаступления рубежи. Туда подоспеет подкрепление — танки, зенитки, пушки. Дадим гитлеровцам сдачи и ещё вернёмся в вашу Литву! Перебьём фашистов и обязательно вернёмся! Понравилась нам Литва. Чисто, девушки красивые, в магазинах продуктов полно. Не то что в Ельце.
— Тогда и мы в свои дома и к родным могилам вернёмся, — сказал Пинхас, стараясь своим молчанием и угрюмым видом не злить солдата.
— Откуда вернётесь?
— Из России. В Литве наши деды и прадеды родились. Всё в жизни можно бросить, но не могилы. Кто оставляет их на попечение ворон и мышей-полёвок, тому никогда не будет прощения.
— А вы хоть знаете, сколько отсюда до матушки-России вёрст? Дай-то Бог вам хоть до Режицы дотянуть. Ведь для такого броска у вас, как я вижу, ничего нет — ни тягловой силы, ни запаса продовольствия. Ваши бабы и детишки и недели не выдержат, помрут в дороге с голоду.
— Были у нас и умная терпеливая лошадь, и телега, и провиант… Да всё при переправе через реку немецкий ястреб уничтожил, будь он проклят!
— Сука! — выругался говорливый красноармеец. — Если они, сволочи, не налетят и не разбомбят нашу полевую кухню, я попрошу у своего дружка — повара Павлика Сизова горячих щей для ваших ребятишек. Он не откажет. Щи, правда, жидковатые, но хлебнёшь, и как будто нет никакой войны, ты снова у себя дома… в Ельце. Есть такой город в России…
— Щи — это всегда хорошо, — согласился Пинхас.
Отец и сапожник Велвл молчали. Что тут скажешь, если за всю свою жизнь они щей не ели.
— Родом я, правда, не из самого Ельца, а из деревни Осиновка, что на берегу речки Быстрая Сосна. Когда закончится эта проклятая война и я живой, неискалеченный, вернусь домой, ни за что не угадаете, что перво-наперво сделаю.
— Водки выпьешь, — усмехнулся Пинхас.
— Не угадали! Первым делом разденусь догола, плюхнусь с откоса в речку, отмоюсь от въевшейся в душу ненависти к этой немецкой сволочи, а потом надену белую рубаху, сяду со своими сёстрами Фросей и Клавой за стол, опрокину стакан «Московской» и закушу солёным огурчиком.
Он говорил без умолку, как будто пытался чрезмерной бодростью отдалить от себя грозящую опасность, подавить усиливающийся страх за собственную жизнь. Излияния солдата были подобны заговору знахаря от всех бед и тягот.
— Мы столько уже рядом прошагали, а до сих пор не познакомились. Меня зовут Фёдор. Фёдор Проскуров. А как вас величают?
— Пинхас.
— Шлейме.
— Велвл.
— Какие-то чудные у вас имена, — сказал Фёдор. — Как у редких животных. С первого раза и не запомнишь. Я учился в школе с одним из ваших. Так его звали почти по-нашему — Славик Левинсон. Я у него задачки списывал. Головастый был парень! Мама его даже за четвёрки наказывала.
Колонна двигалась медленно. Беженцы не решались отделиться от неё и продолжить свой путь самостоятельно, ибо боялись в чужом краю лишиться последней защиты. К тому же отчаявшийся, никому, кроме своей лошади, не доверявший Пинхас всё-таки рассчитывал на доброту повара Павлика Сизова. Взрослым, может, ничего и не перепадёт, а ребятишкам — мне и Менделю Селькинеру, как считал возница, достанется хоть по миске жидких солдатских щей и по ломтю хлеба.
Когда к полудню июньское солнце просто разъярилось и от жары некуда стало деться, Пинхас увидел вдалеке каурую лошадь, запряжённую в двухколёсную повозку с прицепом, которая неожиданно возникла из летнего марева. Это и была долгожданная полевая кухня. Она съехала на обочину, и к ней тут же гуськом потянулись измотанные зноем и долгой ходьбой солдаты.
— Шагом марш за мной к Павлику, — весело скомандовал наш сердобольный опекун — гранатомётчик Фёдор Проскуров. — Поспешите, товарищи евреи, пока другие всё до самого донышка не выхлебали.
Как только мы приблизились к уже растянувшейся очереди к повозке, на которой стояли пузатые алюминиевые котлы с вожделенными щами, сверху послышался неясный тревожный гул. Он с каждым мигом усиливался и приближался. Небо какое-то время ещё оставалось словно выстиранным, нестерпимо синим, без единого облачка, но вдруг эту первозданную благостную синеву разрезали немецкие бомбардировщики, летевшие к дороге, по которой, не успев подкрепиться, брели красноармейцы и прибившиеся к ним беженцы не только из Йонавы, но и из других обречённых еврейских местечек.
— Воздух! Воздух! — во всё горло выкрикивал молодой офицер — видно, командир отступающей части.
Колонна рассыпалась. Солдаты кинулись к густому орешнику в надежде укрыться в его зарослях и переждать начавшуюся бомбёжку.
Мама схватила меня за руку, и мы вместе с отцом почему-то пустились за ней к стогам сена на лугу, зарылись в него с головой, словно спрятались в бункер.
Грузный Пинхас и Селькинеры рысью бежали вслед за красноармейцами к орешнику, чтобы схорониться в гуще низкорослых деревьев или можжевеловых кустах, куда солдаты, расстегивая на ходу ремни, ещё совсем недавно бегали справлять нужду.
До сих пор для меня остаётся неразрешимой загадкой, как моей маме в те гибельные минуты могла прийти в голову счастливая мысль искать защиты не в орешнике, а в чистом поле, в одном из стогов высохшего сена… Её рискованный расчёт на то, что в таком немыслимо уязвимом убежище мы скорее останемся живы, чем в другом месте, полностью оправдался. Отряхиваясь от страха и от пыли, мы вышли из этого стога целые и невредимые. Немецкие асы не тронули ещё не свезённое в риги крестьянское богатство, потому что сочли бессмысленным тратить бомбы не на противника, а на жуков-сеноедов.
Взрывы бомб долго сотрясали придорожный орешник и заросшие высокой травой овраги.
Немцы хозяйничали в небе, не встречая сопротивления. Кроме винтовок Мосина и автоматов, у отступавших пехотинцев не было никакого подходящего оружия для ответного огня по «юнкерсам» и «месершмиттам». А из винтовки, сколько ни пали, только ворон в орешнике вспугнёшь, да и сам, чего доброго, подставишься, невольно попадёшь под прицел.
Израсходовав весь боезапас и удовлетворившись результатами налёта, лётчики развернули свои машины и покинули небо.
Результаты бомбардировки и впрямь были ужасающими. Треть отступавшей воинской части и примкнувших к ней беженцев на развороченную дорогу не вернулась.
Убитых никто не хоронил. Их тела, изуродованные, разорванные немецким железом на куски, остались лежать в орешнике и в терпко пахнущем можжевельнике. Над разбросанными там и сям трупами со зловещим карканьем кружились неизвестно откуда налетевшие вороны — вечные свидетели ухода человека из жизни. Их громкие крики были подобны нескончаемому поминальному плачу.
Мама и отец с надеждой озирались по сторонам, стараясь зацепиться взглядом за каждую знакомую фигуру, движущуюся к дороге, посреди которой растекалась внушительного размера лужа постных солдатских щей, но тех, кого они так жаждали увидеть, в доступном их взору пространстве не было — ни балагулы Пинхаса, ни семьи Селькинеров из Белостока, второй раз пытавшейся спастись от верной гибели. К сильно поредевшей колонне медленно, не глядя друг на друга, как с кладбища, в скорбном молчании брели уцелевшие во время бомбардировки солдаты, чтобы снова встать в строй. За ними тянулись беженцы.
Неужели Господь Бог не уберёг Пинхаса и Селькинеров? За какие грехи Он наказал этого чудаковатого, бесхитростного Фёдора Проскурова? Почему обделил его своей милостью — не вернул на родину, в его Осиновку, где Фёдор сбросил бы шинель и форму, снял поношенные кирзовые сапоги, нагишом плюхнулся бы в речушку со странным названием Быстрая Сосна и в честь победы опрокинул бы вместе с сёстрами Клавой и Фросей стакан огненной «Московской»?
Офицер уже готовился скомандовать оставшимся в живых «стройся!», как вдруг из орешника вышел сапожник Велвл, а за ним Эсфирь и шестилетний Мендель.
Отец вскинул вверх руки и от нахлынувшей радости принялся размахивать ими, но Велвл на это почему-то никак не отреагировал. Прихрамывая, он медленно продолжал идти по сухой колючей траве, как по терниям, к дороге.
— Чует мое сердце, случилось что-то неладное, — тяжело вздохнула мама.
— С чего ты взяла?
— Раз Велвл не ответил на твоё приветствие, значит, на то есть причина.
— Пинхас? — предположил худшее отец.
— Наверное. Они же, как видишь, все живы. К счастью, не пострадали.
Когда чета Селькинеров с Менделем подошла поближе, мама по заплаканному лицу Эсфири поняла, что с Пинхасом действительно случилась беда.
— Вот и мы, — сказал Велвл, но обниматься с нами не стал. — Побывали в гостях у безносой. Чудом из этого ада ноги унесли. Без единой царапины…
— Радуйтесь! Смерть вас, слава Богу, отпустила, — с облегчением выдохнул отец. — А что с Пинхасом?
Велвл помолчал и сдавленно сказал:
— Его смерть, к сожалению, не отпустила. Если бы Пинхас не вздумал перебежать от одного укрытия к другому, более надёжному, то, может быть, ему бы и не размозжило осколком голову и он пришёл бы сюда вместе с нами, — промолвила Эсфирь и поёжилась, словно от холода. — Кончились все предсказанные в Писании времена — время сеять и время жать, время жить и время умирать… Настало время хоронить и плакать. Страшно и стыдно, когда убитых нельзя предать земле, ведь голыми руками могилу не выроешь. Я Менделю закрывала глаза, чтобы он, не приведи Бог, при виде мёртвого Пинхаса не онемел от ужаса.
Эсфирь задохнулась от этих слов и снова заплакала.
— Мы листьями вытерли с его лица кровь, — поспешил на помощь жене Велвл. — Тело накрыли сухими ветками, попросили у Пинхаса прощения и зашагали к дороге, к вам и к своим защитникам. Побоялись отстать…
— Да будет благословенна его память, — сказал отец.
— Наш Пинхас отправился к своей лошади, — горько усмехнулся Велвл Селькинер. — Велика утрата, но надо жить дальше, — добавил он и двинулся вместе с нами к заканчивающей построение колонне. — Будем ждать прихода Избавителя — Машиаха, который воскресит всех мёртвых — и ломовых извозчиков, и их лошадей. Всех.
— Только не немцев! — воскликнула Эсфирь и погладила сына по голове.
Когда колонна красноармейцев и притулившиеся к ней беженцы вошли в Режицу, уже начало смеркаться. Город встретил нас неправдоподобной тишиной, как будто никакой войны и не было. Режицу окружали огромные холмы, смахивавшие на допотопных мамонтов. Казалось, дома примостились на их могучих спинах. С холмов веяло приятной, бодрящей прохладой.
— Немцы на пороге, а отсюда вроде бы никто никуда не убегает, — сказал отец. — Или евреев тут сроду не было?
— Пока, видно, не убегают. Высиживают свою беду. Ждут, когда она вылупится. Но мы здесь останавливаться не будем, — пригасила его осторожные надежды не склонная к преувеличениям мама.
Не отделяясь от солдатской колонны, мы прошли по Режице до вокзала и решили переночевать в зале ожидания, а назавтра, дождавшись какого-нибудь товарняка, добраться до узловой железнодорожной станции — Двинска.
Я и Мендель от усталости валились с ног и сразу уснули на вокзальных скамьях. Наши измученные родители дремали сидя.
Утром отец отправился в город на промысел — добывать пищу, прихватив на всякий случай отрез английской шерсти. Были у него и рубли, но продавцы их не брали уже в Йонаве. Оказалось, что и тут, достаточно далеко от линии фронта, лавочники на эту терпящую поражение валюту смотрели косо, чуть ли не с откровенным презрением, и не желали её принимать, предпочитали серебро и золото, которые хороши при любой власти.
Ни серебра, ни золота у отца не было, но ему удалось поменять отрез на три буханки ржаного хлеба с тмином и несколько кругов ливерной колбасы. Пайки, которые отец выдавал на обед, были разные: детям — кусок побольше, взрослым — поменьше, но никто не роптал. Все надеялись, что в Двинске рубль устоял, и ждали попутного товарного состава.
Поезда ходили редко.
Зал ожидания смахивал на тюрьму без решёток и надзирателей, с той лишь разницей, что никто из беженцев не знал, к какому сроку он приговорён. Ни мы, ни Селькинеры не отчаивались, верили в удачу — машинист сжалится и подберёт нас.
Незадолго до того, как судьба проявила к нам благосклонность, к нашим скамьям подошёл молодой худощавый мужчина в чёрном лапсердаке и глубоко надвинутом на глаза картузе. С висков у него стекали извилистые струйки смоляных пейсов, а из-под верхней одежды свисали нити цицес[55]. В руке у незнакомца был молитвенник в кожаном переплёте.
— Меня зовут Меир Жабинский, — представился он, поглаживая пейсы. — Я учился в Паневежской ешиве. Тысячу раз извините… Позвольте, как еврей евреям, задать вам один щепетильный вопрос.
— Задавайте. Как известно, вопросы у евреев бесплатные, — сказал Велвл.
— Скажите, пожалуйста, в России есть ешивы, синагоги и, не про нас будь сказано, хевра кадиша[56]?
Отец пожал плечами.
— А что? — снова с подковыркой в голосе полюбопытствовал сапожник. — Разве это для нас сейчас главное?
— Главное, не главное… Молиться в одиночестве, конечно, не воспрещается, славить Господа можно повсюду. Но лучше, когда все сообща творят молитву в Божием доме.
— Есть там синагоги, ешивы, погребальные братства или нет, мы понятия не имеем, — пожал плечами отец. — Мы до этого кошмара в России никогда не бывали.
— Кого ни спрошу, никто не знает. Что делать там, где ничего для тебя нет?
— Для того чтобы молиться, сначала надо выжить.
— Святые слова! — воскликнул Меир.
Он стал вместе с нами ждать поезда в таинственную Россию, где, может, и нет ни одной синагоги и ни одного погребального братства, зато евреев пока не хватают на улице и не убивают.
Ближе к вечеру нам удалось сесть в товарный состав, и до Двинска мы доехали в вагоне, приспособленном для перевозки на бойню крупного рогатого скота.
В вагоне стоял густой запах навоза и мочи. Всю дорогу мы были вынуждены простоять на ногах — охотников присесть на щербатый, грязный пол не нашлось. От духоты тошнило, кружилась голова, но двери были плотно закрыты на железный засов, и никто не отваживался открывать их на ходу, чтобы глотнуть свежего летнего воздуха.
Наш новый попутчик Меир Жабинский всё время потихоньку молился, и от этого самозабвенного шёпота клонило ко сну, но преклонить голову было негде.
Уткнувшись в тёплый бок мамы, я стоял посреди полупустого вагона с крохотным оконцем, вырезанным, видно, не столько для тусклого освещения, сколько для проветривания. Прислушиваясь к молитвенному бормотанию выпускника Паневежской ешивы, я вспоминал бабушку Роху. Вспоминал, как она в своем доме на Рыбацкой улице стелила мне постель на скрипучем топчане и, как бы заклиная меня, тихонько говорила: «Пусть, золотко моё, прилетит к тебе во сне твой ангел-хранитель и даст тебе своё благословение». Бабушка тогда и думать не думала, что не пройдёт и пяти лет, как мне будут сниться не ангелы небесные, а немецкие бомбардировщики и несчастные, не ведающие, как и мы, своей участи, латышские коровы, которых перевозили в таких вагонах на бойню.
Перед прибытием в Двинск отец предложил всем подкрепиться. Ужин на шестерых был скромным — каждому по кружочку ливерной колбасы и ломтю ржаного хлеба с тмином. Прибившийся к нам правоверный Жабинский от этой трефной еды наотрез отказался.
— Простите, но я некошерную пищу не ем. Мою долю отдайте вашим мальчикам.
— С такими строгостями вы в России пропадёте, — выпучил на глаза Велвл. — Чем же вы, любезный, собираетесь там питаться? Манной небесной?
— Того, кто верит в Господа Бога, Он всегда накормит.
До желанного Двинска мы доехали довольно быстро. Товарняк загнали на запасной путь, потому что вся железнодорожная станция из-за отмены дальних маршрутов была забита поездами. Билетные кассы не работали, и над их окошечками белели написанные ещё по-русски и по-латышски краткие объявления: «Временно закрыто». Дежурный по вокзалу отправлял на восток только поезда специального назначения — с ценным промышленным оборудованием и высокопоставленными пассажирами.
На привокзальной площади толпились беженцы, а их разведчики шныряли по зданию вокзала и по путям, чтобы добыть какие-нибудь обнадёживающие сведения или увидеть хотя бы одного машиниста в окошке паровоза.
— Боюсь, что мы тут застрянем, — приуныл Селькинер, легко впадавший в уныние.
— Господь Бог вывел нас из Египта. Выведет Он нас и из Двинска, — подбадривал спутников Меир Жабинский.
— Когда? — потребовал ответа Велвл.
— Небесного Владыку нельзя торопить и спрашивать, когда, в какой именно день и в котором точно часу Он что-то для тебя сделает. Всевышнего можно только убедительно просить, чтобы Он исполнил то, чего ты желаешь.
Мы с Менделем, наверное, больше всех желали, чтобы нас как можно скорее переправили отсюда в Россию. Туда, где можно спать, не стоя в зловонном вагоне для скота, а лежа в обыкновенной постели с подушкой и одеялом. Бабушка Роха всегда жаловалась, что Господь Бог за всю жизнь не исполнил ни одного её желания, хотя она Ему верила больше, чем деду Довиду. Но моё желание Он услышал — среди беженцев прокатился слух, что на третьем пути начинается посадка и готовится к отправке поезд с женщинами и детьми и что в освещенных окнах нескольких купе вроде бы видны свободные места.
— Там все пассажиры важные, у них особые билеты, а нас без бумажки не пустят, — сказала мама. — Может, подождать?
— Смерти? — вспыхнул отец. — А что, если пустят? Мы же не воры, не грабители.
Отца поддержала Эсфирь:
— Что мы, скажите, теряем? Пустят — хорошо. Не пустят, либо отступим, либо силой прорвёмся. Ради Менделя я на всё готова.
Никто такой решимости от Эсфири не ждал.
Слух о поезде с полупустыми вагонами, следующем по маршруту Двинск — Великие Луки — Ярославль, привёл беженцев в движение. Они тут же ринулись с платформы на третий путь, но то, что увидели ещё издалека, охладило их пыл.
Вдоль всего поезда стояла вооруженная охрана. Нетрудно было догадаться, для чего она предназначена — для безопасной эвакуации семей партийных работников и офицеров высокого ранга в глубь России.
Солдаты строго охраняли все подходы к этому поезду особого назначения, а проводницы с карманными фонариками в руках тщательно проверяли то ли билеты, то ли специальные пропуска, которыми обладали лишь вельможные пассажирки со своими наследниками.
Беженцев, стремившихся во что бы то ни стало уехать подальше от немцев, было не больше двухсот человек. Сначала охранники смотрели на нас с недоумённым сочувствием, но потом, когда кто-то стал приближаться к составу, засуетились. Послышался сочный командирский басок:
— Товарищи! Прошу немедленно освободить все подъездные пути, чтобы не подвергать опасности свою собственную жизнь и не чинить помех для прибывающих на станцию поездов!
Но поезда ниоткуда не прибывали, и беженцы приказ выполнять не спешили.
— Граждане, прошу вас по-хорошему: разойдитесь! — возгласил тот же бас. — Ждите, пожалуйста, свой поезд в зале ожидания!
Легко сказать — ждите свой поезд. Нет у нас своего поезда и, может, никогда уже не будет.
То ли от усиливавшегося с каждой минутой унизительного чувства безысходности, то ли от смелости, разбуженной отчаянием, передние ряды беженцев, вместо того чтобы отступить, продвинулись ещё ближе к цели.
— Может, не стоит их дразнить, — дрогнул Велвл. — Раз поезд охраняют солдаты, значит, они имеют право открывать по нарушителям огонь…
— И тебе не стыдно? — не дала ему договорить Эсфирь. — Мы же сторонники не немцев, а этой самой Красной армии. Неужели они осмелятся применить против нас оружие?
— Если нам всем суждено погибнуть, какая, скажите, разница, от чьих рук? Советских безбожников или немецких… — прошептал Меир Жабинский и, словно посоветовавшись с Господом, добавил: — Бог велит человеку бояться позора, а не смерти.
— Человек слаб и чаще всего выбирает позор, — сказал отец. — Но Меир говорит дело. Чего нам бояться? Ведь мы не бандиты, сбежавшие из тюрьмы, да и эти охранники — тоже люди. Не звери же…
— Это мы сейчас проверим, — отчеканила мама.
Когда толпа беженцев-евреев, охваченная сметающим все сомнения и страхи порывом, вплотную приблизилась к поезду, кто-то из охранников, демонстрируя свою верность присяге и преданность армейскому начальству, крикнул:
— Стойте! Стрелять будем!
Солдат несколько раз выстрелил поверх голов отчаявшихся, готовых на всё беженцев.
— Сволочи! — крикнул кто-то. — Нашли в кого стрелять…
Выстрелы толпу не остановили. Люди не повернули назад, а, как смертники, двинулись на штурм поезда, рискуя не только собой, но и своими детьми.
Ошеломлённые охранники, видно, рассудили, что, если открыть по беженцам огонь, малой кровью не обойдёшься, а порядок всё равно не наведёшь. Да ещё и поплатиться можно — не по немцам же палили, а вроде бы по своим, новоиспечённым советским гражданам.
Подхлёстнутые нерешительностью и растерянностью охранников, беженцы прорвались через оцепление и принялись штурмовать поезд, на ходу силой заталкивая в вагоны беспомощных проводниц, и захватывать пустующие в купе места.
Сели и мы, но никто радоваться не спешил. Как там остальные? Хоть бы никого не убили, не задавили, не ранили…
— Ну, дай Бог, чтобы нас не выдворили, — выдохнул привыкающий к неожиданным козням судьбы маловер Велвл.
— Могут не выдворять, а просто пригнать на соседний путь другой состав, пересадить туда всех партработников и командирских жён, а нас оставить с носом. Разве такой вариант не возможен? — поделился своими сомнениями предусмотрительный отец.
— Всё в руках нашего Всемилостивого Господа. То, что будет, от нас уже не зависит, — промолвил Жабинский, который стоял в проходе и молился.
Я переминался с ноги на ногу рядом с ним и думал, что, если русских пассажиров с детьми на самом деле пересадят в другой поезд, а нас оставят тут и запрут двери, то этот вагон станет нашей тюрьмой, а может, и могилой. Налетят немецкие ястребы и в два счёта разбомбят всё. Но я помнил совет бабушки Рохи — дурными мыслями негоже делиться с другими, у всех, мол, полно своих бед, их у каждого столько, что грешно к ним прибавлять ещё и свои. Я ни с кем и не делился. Может, от этого они ещё больше меня угнетали. Была среди них и такая: что стало с бабушкой? Видно, Господь Бог не удостоил её последней милости — лечь на кладбище рядом с дедом Довидом. Наверное, её уже убили. Содрогаясь, я рисовал в уме самые мрачные картины: бабушка Роха лежит у порога дома на Рыбацкой улице с простреленной головой, в луже крови, а люди проходят, как мимо кошки, попавшей под колёса. Почему мама и отец ни разу за все эти дни нашего вынужденного странствия не вспомнили о ней? Забыли? Не может быть, успокаивал я себя, они помнят, не могут не помнить, только вслух о ней не говорят, молча корят себя и страдают от того, что не сумели уговорить бабушку или просто заставить уехать с нами.
Долго, очень долго мы ждали, когда поезд тронется. Спасибо всё время молившемуся Меиру Жабинскому — он, должно быть, сумел поторопить Господа. Не по Его ли велению машинист, насытившись паровозными гудками, нажал наконец на рычаг, поезд двинулся вперёд, и мы распрощались с Латвией?
Глубокой июньской ночью, усталые, но полные надежд мы пересекли границу России.
Утром мама рассказала, что все беженцы, не считая детей, уснувших мёртвым сном на жёстких полках, припали к вагонным окнам и стали смотреть на звёздное русское небо. Не стыдясь друг друга, они вытирали рукавами победные слёзы. Только Меир Жабинский раскачивался из стороны в строну и не выпускал из рук молитвенник.
— Неужели в России нет ни одной приличной ешивы? — по-прежнему допытывался он.
…Четыре трудных года мы с мамой (отца тут же призвали в армию и отправили на подготовку в Балахну) провели на чужбине: сначала в глухой деревне под Ярославлем, где остались одни полуголодные дети, старики и женщины, а также не призванные из-за увечья в армию мужчины, потом в казахском ауле у подножия Тянь-Шаня и напоследок на Урале — в шахтёрском посёлке Еманжелинские копи.
В Литву мы вернулись в 1945-м, а через год я, выпускник школы имени генерала Черняховского, вслед за отцом и его младшим братом Мотлом самостоятельно съездил в Йонаву.
Я долго бродил по родному местечку, как по кладбищу: от дома на Рыбацкой улице к дому на Ковенской; от дерева к дереву; от бывшего магазина Эфраима Каплера до конюшни балагул Шварцманов; от начальной школы, в которой когда-то учился, до Большой синагоги. Кроме увязавшейся за мной бесхозной дворняги, мне не с кем было поделиться нахлынувшей печалью. От моей уютной Йонавы, которая когда-то была обжитым еврейским островом, не осталось и следа…
Я пришел на станцию и услышал объявление, что поезд Рига — Вильнюс опаздывает на четыре часа. Я решил снова пойти на Рыбацкую к дому бабушки Рохи, которая, казалось, ещё вчера провожала меня в неугодную ей идишскую школу. Может, увижу кого-нибудь в окне. Может, кто-то выйдет на крыльцо. Но окна были плотно завешены, и крыльцо пустовало.
Мимо меня по улицам сновали незнакомцы, я вглядывался в их лица — вдруг узнаю какого-нибудь старожила, но никого, увы, не узнавал. Честно говоря, я уже жалел, что не остался на пустынном провинциальном вокзале с недочитанными рассказами Мопассана. И вдруг — надо же! — на перекрёстке той же Рыбацкой и Ковенской, у памятного мне столба электропередач с оборванными проводами, где я когда-то встречался со своей одноклассницей Леей Бергер, мелькнуло знакомое лицо. Сначала я подумал, что обознался, но, когда внимательно вгляделся, даже ойкнул от неожиданности и неприлично громко на всю улицу закричал:
— Юлюс!
Мужчина обернулся и бросился ко мне:
— Господи! Кого я вижу! Гиршке! Сын Шлейме Кановича! Моего учителя!
Юлюс обхватил меня своими, как любил говорить дядя Шмуле, трудовыми, мозолистыми руками и крепко, как младенца, прижал к груди.
— Как я рад, как рад! Вот это встреча! Ты надолго?
— Поезд через четыре часа.
— Никуда я тебя не отпущу. У меня свой дом, три комнаты, собственный «Зингер». Теперь я в Йонаве знаешь кто? Ни за что не угадаешь.
— Кто?
— Главный, можно сказать, портной, как понас Шлейме Канович. Поужинаешь у меня. Данута, моя жена, заварит чай, попьём с крестьянским сыром и брусничным вареньем. Выспишься, а завтра уедешь.
— Спасибо, не могу. Не хочу волновать маму.
— А мы сходим на почту, позвоним в Вильнюс поне Хенке и успокоим её. Она только порадуется нашей встрече.
— В другой раз. Ладно?
— Ладно. Без вас, евреев, наша Йонава, конечно, уже не та, — сказал Юлюс. — Почти все твои соплеменники остались тут, но только в Зелёной роще, в окрестных оврагах и песчаных карьерах. Там их расстреливали. Никого не пожалели.
— А вы что? Сидели и не вмешивались? — горько усмехнулся я.
— Если бы кто-нибудь бросился их спасать, сам бы лёг рядом. Я был вынужден переехать из Йонавы в Купишкис. Эти парни с белыми повязками называли меня жидовским подкаблучником и запросто могли со мной расправиться.
Юлюсу этот разговор был неприятен, и он поспешил его поскорее закончить.
— Как живет понас Шлейме? Как поне Хенка? — спросил бывший подмастерье.
— Слава Богу!
— А мой отец связался с теми, у кого совесть нечиста… Сразу после войны его за пособничество, сам знаешь кому, арестовали и сослали в Сибирь. Сейчас он там не двор Каплера подметает, а, как когда-то твой дядя Шмуле, вкалывает на лесоповале и смывает вину потом. Мама в сорок втором умерла от рака.
Время шло, и я стал прощаться.
— Куда ты, Гиршке, так спешишь? У нас ведь в запасе ещё много времени.
— А давай-ка спустимся с тобой к Вилии. Пять лет с ней не виделся.
— С Вилией?
— Да.
— Река сильно обмелела, но поплавать можно. Только знай: напротив плакучих ив — страшные омуты. Пойду с тобой вместе. С берега в воду — и наперегонки!
Вместе так вместе. С Юлюсом так много было связано… Отец верил в него и не ошибся. В погромах земляков-евреев он, в отличие от своего родителя, не участвовал, к убийцам не примкнул, сидел дома и старательно строчил на «Зингере».
Мы спустились по косогору к реке моего детства. Перед возвращением в Вильнюс я решил ей низко поклониться и в молчании постоять на знакомом берегу.
Когда мы подошли к самой кромке воды, мне вдруг почудилось, что вместе с нами к реке спустилась и моя бабушка Роха-самурай.
Кому-то из читателей эти слова, наверное, могут показаться надуманными, но и поныне, когда уже близится отмеренный мне Господом Богом возрастной предел, за которым только потусторонняя тишина, я нет-нет да и продолжаю в своём воображении спускаться с бабушкой по крутому, заросшему колючим репейником косогору к Вилии — реке моего детства, неудержимо текущей в вечность.
В длинных, до колен, трусах, сшитых из сатина, я стою перед властной, неумолимой Рохой, которая сжимает в морщинистой, с набухшими венами руке большую осиновую палку и не сводит с меня свои чёрные, ястребиные глаза. Она готова в любую минуту безжалостно огреть меня своей клюкой по голой спине, если я посмею войти в воду на глубину выше моих выдающихся трусов и — о, ужас! — пуститься вплавь по-собачьи от неё — моего сурового и нежного ангела — к другому берегу.
— Не смей плавать! Слышишь? У тебя что — уши заложило? Пусть плавают другие! — сердится бабушка Роха и с недвусмысленным значением постукивает палкой по береговому песку. — Окунись и сразу вылезай из воды!
— Бабушка, — умоляю я своего грозного стража. — Я хочу научиться плавать и хоть разочек переплыть, как Мендель Гиберман, на другой берег Вилии.
— На кой сдался тебе этот другой берег?
— Ну, пойми, я очень хочу увидеть…