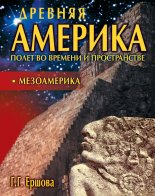Местечковый романс Канович Григорий

— Незавидное положение, — посочувствовал Песе отец.
— Шмулик говорит, раввины и ксендзы уже больше не начальники. Мы, говорит, начальники, мы тебя, говорит, с твоим командиром в два счёта зарегистрируем и выдадим брачное свидетельство с гербовой печатью. Шутит братец, конечно.
— Может, и не шутит, — сказала мама. — Вы тут ещё поговорите, а мне пора к Коганам. Сама не знаю, обрадую я их или огорчу, когда сообщу, что границы Литвы закрыты и Перец за ними уже никогда не приедет.
— Я пойду с тобой, — увязалась за ней тётушка Песя.
Отец остался один, но за работу браться не спешил, кружил в раздумье вокруг своего «Зингера», накрытого вышитым покрывалом, как лошадь попоной. Он открыл настежь окно и долго смотрел, как неповоротливый дворник Антанас, безразличный ко всем переменам на свете, кроме цены на спиртное, небрежно подметает своей громадной метлой улицу.
Приход свояченицы только усугубил растерянность отца. Он сам толком не понимал, что его так взволновало и расстроило. Отец уже не сомневался в том, что Шмулик навсегда попрощается с иголкой, но что-то ещё томило его и угнетало. Чем-то Шмулик смахивал на дворника Антанаса, хотя спиртного в рот не брал. Может, сходство между ними, поймал себя на мысли отец, заключалось в том, что оба с какой-то чрезмерной страстью всегда отстаивали свою правоту. Антанас относился к устоявшемуся в Литве порядку с благоговением, как к любимой водке, и не желал, чтобы её вдруг изъяли из продажи. И вообще дворник хотел, чтобы в жизни ничего не менялось. Как он махал метлой, так с метлой при любой власти и останется. Всякая новизна представлялась ему непредсказуемой и враждебной. А Шмулика до головокружения опьяняла не горькая, а новизна, перемены, гибель старого.
Погружённый в свои раздумья, отец сразу и не услышал, как кто-то настойчиво стучит в дверь.
Он открыл и, к своему большому удивлению, увидел перед собой обычно сурового и недружелюбного домовладельца реб Эфраима Каплера, который на сей раз приветливо улыбался.
— Добрый день, — не переставая широко улыбаться, сказал зачастивший к своему квартиранту реб Эфраим. — Сейчас запираться, по-моему, нет никакого смысла. От чумы замками и щеколдами не отгородишься. Если эти… товарищи… захотят, они без отмычки откроют любую дверь, за которой лежит чужое добро.
— Простите, реб Эфраим, кого вы имеете в виду, о ком это с таким пылом говорите? — прикинулся простаком отец.
— А о ком сейчас все говорят? О тех же! О новых хозяевах жизни. Как ваш шурин? Он вернулся?
— Да.
— Быстро, однако, три годочка пролетели.
— На свободе время летит быстро, а тюрьма, позвольте вам заметить, у текущего времени как бы крылья подрезает. Поэтому, наверное, любому человеку, которого бросили в застенок, всегда кажется, что время не летит, а едва ползёт по-черепашьи, — мягко возразил отец.
— Думаю, русские возместят вашему шурину за все его лишения. К портновству он вряд ли вернётся. Пристроят куда-нибудь. Не пожалеют для страдальца тёплого местечка.
«Хитрый лис», — мелькнуло у отца в голове. Реб Эфраим Каплер заблаговременно пытается проложить себе через Шмулика на ближайшее будущее ровную безопасную дорожку. Но отец не показал вида, что разгадал намерения домовладельца, не перебивал гостя и слушал его с почтительным вниманием.
— Для вас, Шлейме, что та власть, что эта, разницы никакой, — откровенно сказал он, подкрутил свои несравненные усы и со значением добавил: — А для нас это — наброшенная на шею петля. Одно движение, и задушат. Вся надежда на то, что от любой власти, прямо скажу, нам, евреям, иногда удавалось откупиться. Может, Бог даст, откупимся и от этой. Нет такой власти, которая была бы равнодушна к золоту. Когда появится ваш шурин, дайте мне знать. Хочу с ним кое о чём потолковать. Буду вам очень обязан.
— Если появится.
— Появится, никуда не денется. Скоро мы о нём услышим, поверьте моему чутью.
На третий день, в субботу, когда даже не верующий в Бога отец, соблюдая обычаи предков, не притрагивался к иголке и не осёдлывал свой верный «Зингер», Шмулик наконец пришёл в мастерскую.
Не поздоровавшись, он кинулся к отцу, окольцевал его мускулистыми руками и чуть не задушил в объятьях.
— Наша взяла! Говорил же я тебе, глухарю, что наша возьмёт, а ты не верил! — воскликнул Шмулик с победительным восторгом. — Ты что, как будто этому и не рад? Лицо кислое, как простокваша.
— Рад, что ты на свободе, хотя тебя и узнать нельзя, встретил бы на улице — прошел бы мимо, — уклонился от ответа отец. — Ты вроде как помолодел и постройнел.
— На свежем воздухе, в хвойном лесу, под усиленным конвоем каждый за такой срок помолодеет. А как ты? Как моя сестрица? Где наш славный работяга Юлюс? Один работаешь? За три года у меня столько вопросов накопилось! Ужас! Жизни не хватит, чтобы все задать и получить на них толковый ответ.
— Как мы? Живём, — ответил отец. — Работаем. Хенка, как тебе известно, служит у стариков Коганов. Ну, у тех, которые когда-то владели бензоколонкой. Только вечером придёт.
— Тянет её к буржуям.
Отец сделал вид, что не расслышал выпад шурина, и продолжил:
— У меня новый подмастерье — беженец из Польши. Мейлах Цукерман. Юлюса призвали в армию.
— В какую?
— В литовскую.
— Такой армии больше нет. Забудь! Её командующий дал дёру, солдаты разбрелись по домам. Но ты, видно, так увяз в своём шитье, так им занят, что не знаешь, какие важные события происходят прямо у тебя под носом.
— Что-то знаю, чего-то не знаю, — не обиделся отец. — Командующие и президенты, по правде говоря, меня никогда не интересовали. Это не моя, Шмулик, клиентура. Но не будем больше обо мне. Я такой, какой есть, и другим, наверное, не стану. Ты лучше расскажи, чем теперь сам будешь заниматься.
Отец мог бы и не спрашивать. По бравурному тону и хорошему настроению Шмулика он с первого мгновения понял, что тот к нему больше не вернётся, а станет подмастерьем у новой власти, будет шить по её крою. Отец вдруг с обидой вспомнил жену, которая ездила на свидание к брату в колонию строгого режима и, вернувшись домой, наплела, фантазёрка, с три короба — будто Шмулик через перелётных птиц шлёт из-за решётки всем привет и жутко скучает по иголке с ниткой и напёрстку, а он, дурак, ей поверил.
— Жду назначения, — гордо сказал Шмулик. — Куда партия пошлёт.
— О-о! — протянул отец, не имевший никакого представления о партиях.
— Мне сделали несколько предложений, — как бы между прочим обронил шурин. — Но я, наверное, останусь тут, в Йонаве, где ты и Хенка, где мои сёстры, отец и мать, да будет благословенна её память. Ты, Шлеймке, мне поверишь, лгуном, я думаю, меня не обзовёшь, если скажу, что последний раз я плакал в детстве. А тут стоял у её могилы, просил прощения за то, что был никудышным сыном, не проводил её в последний путь, валялся на нарах, и слёзы без остановки текли и текли у меня из глаз.
— Ангелы живут не под каждой крышей, — сказал отец. — Шейна была ангелом, поселившимся под крышей вашего дома.
— Да. Да. Всё на свете можно сменить — власть, веру, родину, мужа, жену, но мать сменить нельзя, — с пафосом ответил Шмулик.
— Будь моя воля, я вообще ничего не менял бы. Пусть было бы так, как есть. Как говаривал один мой клиент, будет лучше, но хорошо никогда не будет. — Отец помолчал и, почувствовав, что нетерпеливый Шмулик спешит, сказал: — Как только тебя куда-нибудь назначат, сразу дай знать. Мы ведь всё-таки родственники.
Новый порядок для всех жильцов нашего дома наглядно начался с того, что власти вменили в обязанность всем домовладельцам, даже тем, кто жил в таком скромном домишке, как бабушка Роха, вывешивать по праздникам не старый, упразднённый государственный флаг Литвы, а новый — одноцветный, красный, с серпом и молотом.
Спрос на красные полотнища в магазинах так подскочил, что на всех их не хватало, и жители Йонавы вынуждены были ездить за покупкой даже в соседние города.
Впервые всё наше местечко сплошь покраснело в холодный ноябрьский день 1940 года, когда покорённая Литва первый раз праздновала годовщину Октябрьской революции. Красные флаги полыхали на всех домах и зданиях, не считая Большой синагоги и костёла.
Отправляясь в канун праздника ранним сумрачным утром в школу, я увидел, как дворник Антанас, отец Юлюса, вставляет над галантерейным магазином Эфраима Каплера в пустующий рожок флагштока древко красного флага и смачно сплёвывает на заледеневший тротуар.
Поздоровавшись с Антанасом, я собрался пройти мимо, но он, ещё не протрезвившийся с вечера, вдруг остановил меня следующей тирадой:
— Наша трёхцветка, чёрт побери, была краше, чем эта красная тряпка. Разве я, скажи, не правду говорю?
Обдав меня перегаром, он ждал ответа. Поскольку литовский язык я знал слабо, отец посоветовал мне в разговорах с нашим неистовым во хмелю дворником пользоваться только знаками согласия.
Я кивнул.
— Это флаг цвета крови! Пророчица Микальда предсказывает, что она будет литься реками! Ду фарштейст? Блут, блут![45] — перешел он на скудный дворовый идиш и почему-то рукой, как ножом, полоснул себя по шее.
— Всего хорошего! — вежливо сказал я на прощание и, многозначительно поправив сползающий ранец, заторопился в школу.
Подойдя к ней, я не очень удивился, что над входом на студёном ветру развевается такой же красный флаг, как над нашим домом. В школьном коридоре была устроена приуроченная к Великому Октябрю выставка — на стенах красовались Ленин на броневике, Сталин со всеми своими соратниками на мавзолее, фотография парада физкультурников в одинаковых белых брюках и рубашках.
Готовясь к годовщине революции, Фира Березницкая разучила с нами выловленное из идишской печати небольшое стихотворение местного поэта, посвящённое мудрому и любимому Иосифу Виссарионовичу, и устроила для выявления лучшего чтеца в классе конкурс.
Победителем оказался мой одноклассник, который в первый день на перекличке под общий смех учеников и улыбку учительницы представился как «Я и Айнбиндер, и Хаим».
С тех пор прошло больше семидесяти лет, но до сих пор в моих ушах звучит его задорный голос и чеканный ритм стихотворения, а в памяти блуждает примитивная строфа, которую и привожу в своем корявом, вольном переводе:
- Евреев всюду обижали,
- И был им белый свет не мил.
- Но вот пришёл товарищ Сталин
- И всех евреев защитил.
К сожалению, товарищ Сталин победителя посвящённого ему конкурса не защитил. Почти через год «Я и Айнбиндер, и Хаим» в числе многих других был расстрелян в Зелёной роще под Йонавой литовскими националистами за все мнимые и не мнимые грехи евреев.
А до этого в Зелёной роще лилась непритязательная мелодия литовской народной песни. Там пастух Еронимас на самодельной свирели самозабвенно ублажал своими руладами недисциплинированное коровье стадо. До того гибельного июньского полудня в нашем классе, как и во всех остальных, на побелённой стене всё ёщё красовалась приклеенная к широкому листу картона троекратно увеличенная фотография вождя и учителя всех народов. На ней Сталин в белом кителе с небрежной величавостью набивает свою знаменитую трубку. А напротив него, нашего защитника, за последней партой, почти под потолком, в массивной деревянной раме печалился снятый незадолго до смерти американским фотографом любимец Фиры Березницкой задумчивый Шолом-Алейхем. Казалось, оба с удивлением присматриваются друг к другу. В глазах Шолом-Алейхема светится прощальная улыбка, а великий Сталин недоумевает, как это он вдруг очутился в одном помещении да ещё по соседству с этим евреем-очкариком?
— Почему портрет президента Сметоны висел только в учительской, а Сталин… — попытался до начала урока спросить у Фиры Березницкой наш самозваный предводитель Мендель Гиберман, но учительница не дала ему закончить предложение.
— Во-первых, Гиберман, научись правильно говорить: не Сталин, а товарищ Сталин. Понятно?
— Не совсем, — ответил занозистый Мендель. — Почему товарищ Сталин висит повсюду?
— Потому, что он друг всех народов мира, в том числе нашего, еврейского, народа, а Сметона нашим другом никогда не был. Теперь тебе понятно?
— Угу, — промычал Гиберман. — Но всё равно не понятно.
А в Йонаве и впрямь происходило много непонятного, и всё это находило живой отклик среди учеников нашей школы. Мы уже не были теми несмышлёными малышами, которые впервые переступили её порог. Правда, как учил меня терпеливый отец: что бы на земле ни случилось, надо помнить, что заковыристых вопросов всегда больше, чем ответов, и лучше во избежание незаслуженных неприятностей, не подумав, их не задавать.
Портреты Сталина нашу учительницу Фиру Березницкую, видно, не очень волновали. Висят и пусть висят. Может, когда-нибудь их тоже снимут и заменят. Больше всего её напугала и расстроила новость, что новые власти вроде бы собираются закрыть ивритскую школу Тарбут, в которую с такой бойцовской настойчивостью стремилась отправить меня бабушка Роха.
— Начнут с ивритской, а закончат идишской, и тогда хоть вешайся, — приуныла Фира.
Когда она объявила всему классу о закрытии Тарбута, я вдруг пренебрёг советами отца и последовал примеру своего злейшего врага Менделя Гибермана — задал ей вопрос не столько от собственного имени, сколько от имени своей бабушки, которая мечтала, чтобы я учился только в Тарбуте:
— А почему эту школу закрыли?
— Не знаю. Спроси лучше у своего дяди. Я слышала, что он скоро станет у нас в Йонаве большим начальником. — И чтобы прекратить разговор о закрытиях и запретах, Фира добавила: — Давайте, дети, поговорим о более весёлом — в честь двадцать третьей годовщины Октябрьской революции, о которой я вам на уроке позже подробно расскажу, вас ждут трёхдневные каникулы.
— Ура! — грянуло по-солдатски в классе. Кричали и хлопали в ладоши даже девочки.
После уроков возле школы меня схватил за рукав Мендель Гиберман и дерзко, с двусмысленной усмешкой спросил:
— А где твоя Леечка? Что же ты, жених, её от всех нас прячешь?
— Она болеет. Простудилась, наверное. На улице такая холодрыга, — не подозревая подвоха, ответил я.
— Простуда, холодрыга, — передразнил меня Гиберман. — А ты не врёшь? Может, она тебя на Рыбацкой улице у столба с оборванными проводами ждала, ждала и, не дождавшись, как её мамочка, взяла да и за гоя выскочила? — криво усмехнулся он, довольный своим фиглярством.
— Ты, Мендель, дурак, — сказал я.
— Сам дурак! Ничего про свою кралю не знаешь. Все знают, а ты не знаешь. Из-за тебя, олуха такого, Лея точно не повесится, и ты от горя под поезд не бросишься!
— Что ты, Мендель, мелешь? Зачем ты мне эту ерунду говоришь? — опешил я от его наглости, еле сдерживая обиду и желание дать ему оплеуху. Но мне не хотелось первым затевать в школе драку. Не потому, что я боялся Менделя Гибермана, а потому, что вообще ни разу ни с кем не дрался.
— Зачем я тебе говорю? Чтобы ты знал, из какого гнёздышка твоя птичка!
Не знаю, что со мной в ту минуту приключилось, но я вдруг развернулся и с размаху ударил обидчика по его гадкой физиономии.
Гиберман в долгу не остался и пустил в ход кулаки. Я вдруг почувствовал, как у меня из носа потекла кровавая струйка, которую я пытался слизать с губ языком, но, сколько ни слизывал, привкус крови упорно не исчезал.
Во двор выбежали мои одноклассники — рослый «я и Айнбиндер, и Хаим» и веснушчатый толстячок Дов-Бер Дворкин. Они разняли нас, а Фира Березницкая ваткой из школьной аптечки заткнула мне кровенившую ноздрю.
В таком виде, с торчащей из ноздри багровой ваткой я предстал перед своими домочадцами.
— Что случилось? — осведомился отец.
— Каникулы, — пробормотал я.
И мой родитель, и оказавшаяся у нас бабушка Роха, и даже подмастерье Мейлах со своей Малгожатой — все громко дружно рассмеялись.
— Подрался? — стала допытываться бабушка.
— А… — отмахнулся я.
— Твои дружки, наверное, ещё не знают, что теперь им лучше с тобой не связываться. У тебя сейчас появился такой защитник, что он сразу всех драчунов в местечке приструнит.
В голове вертелось единственное имя защитника. Из стихотворения, которое выразительнее всех в нашем классе прочитал «Я и Айнбиндер, и Хаим». Я, недолго думая, брякнул:
— Сталин?
Тут смех перешёл в такой громовой хохот, что его, очевидно, выбросило волной за стены комнаты прямо в покои реб Эфраима Каплера.
— Ну и насмешил ты нас, Гиршке, ну и насмешил!.. — не переставая смеяться, повторял отец. — Бабушка имела в виду не Сталина, а твоего дядю Шмулика. Он уже, Гиршке, больше не портной и работает совсем в другом месте.
— А кто он сейчас?
— Ни за что не угадаешь. По-старому — полицейский. Нет, нет, бери выше, не простой полицейский, как «почти еврей» Гедрайтис, а чуть ли не полицмейстер. А если по-новому, то заместитель начальника йонавского отделения энкавэдэ. Важная птица! Раньше Шмулик у нас дневал и ночевал, а сейчас не очень жалует, даже к своему отцу Шимону редко приходит, живёт себе один в трёхкомнатной квартире бывшего начальника охранки Ксавераса Григалюнаса, который когда-то его при тебе и при маме в доме бабушки Шейны арестовывал…
— А к нам Шмулик придёт?
— Может быть, придёт, а может, не придёт, у него работы много. Что-то в Йонаве надо срочно открывать, а что-то без промедления закрывать.
— Наша учительница говорит, что школу Тарбут, куда бабушка так хотела меня отправить учиться, взяли и почему-то закрыли, — поддержал разговор я.
— Не может быть! — страшно возмутилась Роха. — Кому она мешала? Кому?
— Успокойся, мама. В жизни всё может быть, даже то, что быть не должно.
— Святые слова, — поддержал хозяина Мейлах. — Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь окажемся бездомными беженцами в Литве.
— Новая метла по-новому метёт. Главное, чтобы она нас с вами не вымела, — сказал отец. — Пока можно сидеть и шить, грех жаловаться на судьбу.
К счастью, швейные мастерские новая власть не трогала. Они ломились от заказов. Продолжался, как называл это отец, русский сезон. Казалось, весь командный состав расквартированных в Йонаве частей Красной армии решил на память о службе в Литве запастись сшитой у местных портных штатской одеждой.
Первыми к отцу пожаловали старший лейтенант Василий Каменев и его будущая жена тётушка Песя.
— Василий хочет, чтобы ты сшил ему двубортный костюм из английского коверкота, — сообщила Песя на родном языке. — Вот отрез.
Уральский богатырь по-еврейски не понимал и ограничивался только знаками согласия. Его разговорный идиш состоял из трёх-четырёх легко усвояемых предложений: «Йе, йе, йе»[46], «А гутн тог айх»[47] и «Зайт мир гезунт»[48].
— Он хоть знает, сколько я беру за пошив? — поинтересовался, как и у всех рекомендателей, у свояченицы мой щепетильный в денежных делах отец.
— Знает.
— И знает, что я делаю скидку только родственникам? Но поскольку вы пока не стали мужем и женой, я для него исключение делать не буду. Когда поженитесь, тогда другое дело.
Василий Каменев всё время взглядом обстреливал то мастера, то смущённую тётушку и рассыпал по комнате, как горошины, свои «йе, йе, йе».
Они договорились о сроках, и напоследок добродушный Василий продемонстрировал, к удовольствию отца и Мейлаха, своё умение говорить по-родственному:
— Зайт гезунт, а гутн тог айх!
Паломничество сослуживцев Каменева в портновские заведения Йонавы продолжалось. За будущим свояком через неделю к отцу явились капитан и майор вместе с переводчиком Валерием Фишманом. Каждый из них принёс по отрезу отменного английского бостона, купленного в мануфактурной лавке реб Эфраима Каплера.
Пока отец снимал с красных командиров мерку, старший лейтенант Фишман молчал, но перед уходом из мастерской не вытерпел и обратился к отцу:
— У нас в Гомеле и в соседнем Бобруйске такого замечательного материала вы днём с огнём не найдёте. И в Минске, наверное, тоже не сыщете. Какой бостон, какое качество!
Отец и Мейлах с трудом справлялись с заказами, работали допоздна. Хенка и Малгожата старались посильно помочь мужчинам переодеть, как шутил Шлеймке, всю Красную армию, расквартированную в Йонаве, в цивильное.
Не переставал отец ждать и подкрепления — Юлюса.
Он всё время спрашивал Антанаса, знает ли тот что-нибудь о сыне.
— Сгинул парень, — отвечал дворник и с пьяной улыбкой добавлял: — А может, в Германию вместе с его высокопревосходительством президентом и всеми министрами и генералами смылся.
— Ну уж, ну уж, — успокаивал Антанаса отец. — Наверное, где-нибудь с девушкой милуется. Побалуется и вернётся.
— Дай-то Бог, понас Салямонас! Пророчица Микальда предсказала, что этим летом мир рухнет! Вы, евреи, в это не верите и поэтому больше всех пострадаете.
От суеверий Антанаса всегда веяло гибелью, безысходностью, но они почему-то заставляли задуматься над тем, что уже произошло, ведь в Польше и во Франции прежний мир и впрямь рухнул. Над Варшавой взметнулся штандарт со свастикой, а по Елисейским полям победно маршируют немецкие солдаты. Живы ли ещё Айзик и Сара, их мальчики Берл и Иосиф?
В тот предвечерний час дворник Антанас долго бы втолковывал портному вещие пророчества Микальды, если бы вдали не замаячила знакомая фигура Шмулика.
На сей раз обошлось без родственных объятий и поцелуев, только моя мама всплакнула.
Отец познакомил своего шурина с Мейлахом и его Малгожатой.
— Они беженцы из Польши.
— Очень приятно, но больше, я надеюсь, вам никуда не надо будет бежать. Тут же не беспомощная Польша, не бывшая игрушечная Литва, а могучий Советский Союз. Его самая сильная в Европе армия вас в обиду не даст.
— Как говорили у нас в Варшаве, надеемся и мы, — скупо улыбнулся Мейлах.
— Понял, — холодно ответил Шмулик, который ждал, очевидно, от них проявления большей благодарности к могучему Советскому Союзу и доблестной Красной армии.
Мама накрыла на стол. Все стали пить из расписных чашек чай и есть её фирменный пирог с чёрным изюмом.
— Кушай, Шмулик, — угощала брата мама. — В тюрьме пирогов ведь не было, так что старайся теперь наверстать за потерянные три года. Если будешь чаще приходить к нам, глядишь, и наверстаешь.
Шмулик прищурился, посмотрел на моего отца, задержал взгляд на Малгожате и сказал:
— Хорошие были времена. Сидишь, вдеваешь нитку в иголку и шьёшь. Но они закончились! Сейчас надо заново перешивать жизнь. И не всегда придётся орудовать иголкой, порой понадобится пистолет.
Все дружно прихлёбывали чай, возразить Шмулику никто не решался. Но ведь даже если кому-то вздумается перестрелять ворон, от этого только кладбище осиротеет и даже мёртвые прослезятся. Кого же Шмулик пытается так «перешить»? Фабриканта Элиёгу Ландбурга, который не получил американскую визу, потому что консульству Соединённых Штатов новые власти велели за сорок восемь часов убраться из Литвы? Или реб Эфраима Каплера, который, к несчастью, унаследовал от своего родителя Рахмиэля этот кирпичный трехэтажный дом и два магазина — галантерейный и мануфактурный?
Молчание было недолгим, но обидным, и Шмулик эту обиду не скрыл.
— Сам Господь Бог не был белоручкой. Что уж о нас говорить! В белых перчатках мир не переделывают. Приходится иногда пачкать руки.
— В крови? — мама посмотрела на брата с пугливым удивлением и тут же, желая разрядить обстановку, добавила: — Может быть, когда ты переделаешь этот негодный мир, снова сядешь на стол, свесишь свои длинные ноги, положишь на колени чьи-то недошитые брюки и дошьёшь?
— С людьми всякое случается, Хенка. Может, и дошью. Надеюсь, твой муж от меня не откажется. — Шмулик рассмеялся. — А может, и откажется. За три года тюрьмы я, наверное, многое растерял в ремесле… С первого раза ещё, чего доброго, нитку в иголку вдеть не сумею, не то пришью и не то отрежу. Ведь я в колонии стал лесорубом.
Он потеплел, стал расспрашивать Мейлаха, как они с Малгожатой добирались до Литвы, сколько суток заняла дорога, как попали в Йонаву, да ещё к такому мастеру, как Шлейме. Мама не сводила с брата глаз и беззвучно всё время подбадривала его: «Спрашивай, родной, спрашивай!»
Выслушав Мейлаха, Шмулик обратился к своему малословному зятю:
— Тебе, Шлейме, бояться нечего. Никто тебя и пальцем не тронет. Ты готов обшивать любую власть, а любой власти ходить с голым задом не положено и невыгодно, она любит выглядеть привлекательной и всегда обращается не к портачам, а к хорошим портным. Ты портной-умелец — таких ещё поискать надо! В-о-о! — И Шмулик поднял вверх указательный палец. — Ты можешь шить самому высокому начальству. Я бы тебя со спокойной совестью мог порекомендовать даже товарищу Сталину в Кремле, если бы меня об этом спросили.
— Вот это да! Теперь я узнаю своего брата! Ты хороший, просто очень хороший парень, даже тогда, когда порешь несусветную чепуху! — воскликнула мама.
Я слушал Шмулика, который ещё совсем недавно любовно давал мне при прощании два щелчка по лбу, и меня так и подмывало спросить у него, почему закрыли школу Тарбут. Кому она мешала? Но я не решался вмешиваться в разговор взрослых. Я вспомнил яростный спор Шмулика с бабушкой Рохой, которая и слышать не хотела про идишскую школу. Только Тарбут! Только Тарбут! Там-де учатся не голодранцы, а дети местечковой знати. Неужели её из мести богатым закрыли по приказу хорошего дяди Шмулика? Учительница Фира Березницкая неспроста сказала: «Спроси своего дядю Шмуле, он сейчас большой начальник». И с грустью добавила: «Начнут с ивритской школы, а закончат нашей, идишской. Тогда хоть вешайся».
Но все мирно допивали чай, доедали вкусный мамин пирог, и у меня совсем пропало желание задавать какие бы то ни было вопросы. Сколько их ему, воспарившему ввысь, ни задавай, всё равно Тарбут не откроют.
Шмулик уже собирался уходить, когда в комнату, которая служила и мастерской, и гостиной, вошла со своими полными кастрюлями бабушка Роха.
— Кого я вижу! — деланно изумилась она. — А я-то думала, что ты окопался в своей полиции и забыл нас.
Шмулик подошел к ней, с печальной нежностью обнял и, склонив голову, выразил свои соболезнования в связи с постигшей бабушку тяжёлой утратой:
— Я был на кладбище. Они лежат на пригорке рядом — моя мама и Довид. Нельзя забывать своих родственников. Ни живых, ни мёртвых. А в том, что мы так редко видимся, виновата моя проклятая занятость.
— Говорят, ты сейчас кто-то вроде нашего бывшего полицмейстера Розги, только, ты уж прости меня, старуху, обрезанный.
— Что есть, то есть. Обрезанный, но не полицмейстер, — прыснул Шмулик.
— А кто ты?
— Как бы это вам, Роха, объяснить? Мой начальник — Алексей Иванович Воробьёв из Мордовии. Он всего три недели в Йонаве. Я должен ему помочь разобраться в обстановке — кого следует поддержать, кого прижать, а кого держать на прицеле, чтобы не успел новым властям вред причинить.
— А зачем вы прижали Тарбут? Так прижали, что на дверях амбарный замок повесили. Ты, Шмулик, всегда был против них, всегда. Я помню, что четыре года назад ты ругал меня за то, что я хочу туда Гиршке отправить. Мол, в Литве никто на иврите не разговаривает. А на каком языке все сейчас в ней будут разговаривать — на русском?
— И на литовском, и на идише, и на русском. Но от своих прежних слов я не отказываюсь. Ни одна власть на свете не станет из своего кармана оплачивать учебу закоренелых недругов.
Костёр, в котором дотлевали последние угольки, разгорелся с удвоенной силой.
— Каких врагов? Школьников? — не могла успокоиться Роха.
Я нарочно звонко, почти фанфарно помешивал ложечкой в пустой чашке, гордясь и восхищаясь смелостью бабушки.
— Школьников? Они не школьники, а завтрашние сионисты. Пусть едут в свою Палестину и там сколько угодно учатся на мёртвом иврите царя Соломона. Такие школы при советской власти никому не нужны. С кем на иврите, кроме рабби Элиэзера, её выпускники в Йонаве будут разговаривать? Куда, в какой университет они с этим языком поступят? Чем окунаться с головой в дремучее прошлое, лучше обратиться всеми помыслами к будущему, — осваивал новоявленный начальник советский лексикон.
— Пусть едут, говоришь, в Палестину. А кто их туда пустит? — буркнул отец. — Хозяин мебельной фабрики хотел уехать в Америку, а их посольство как ветром сдуло, и получил реб Элиёгу Ландбург от ворот поворот.
Устав от наскоков родственников, Шмулик перевёл разговор в другое русло:
— Что поделаешь, если у всех вас нет классового чутья! Но хватит бесполезных дискуссий. Я забежал только на минутку, а в ущерб своей работе провёл с вами уже целый час. Последний вопрос: Юлюс не объявлялся?
— Нет, — ответил отец.
— Грозное литовское войско со своими двумя одолженными у латышей танками и одним артиллерийским орудием для салютов распущено, а для Красной армии малограмотный, не знающий ни одного слова по-русски Юлюс не годится. Никуда не денется. Найдётся. Не иголка в стоге сена.
— Послушай, Шмулик! Может, ты по воскресеньям поможешь Шлеймке шить? — предложила ехидная бабушка Роха. — Он тебе хорошо заплатит.
— Помог бы с большим удовольствием, — развеселился Шмулик. — Но мы и по воскресеньям работаем. У нас, Роха, работа вообще круглосуточная.
— Что, и ночью не спите? — рвалась в бой бабушка.
— И ночью, когда служба требует, бодрствуем, — беззлобно сказал Шмулик и стал прощаться.
Отец вспомнил о просьбе реб Эфраима Каплера поспособствовать встрече с заместителем главного энкавэдэшника в местечке, но решил о ней не говорить. Пусть реб Эфраим сам свяжется со Шмуликом. Шурин вряд ли клюнет на его золотую наживку.
— Буду к вам на чай и пироги приходить, — пообещал родственник-начальник и удалился.
— Далеко мой братец пойдёт, — сказала мама. — Если не споткнётся.
— Грязная у него работа — сортировать людей, — вдруг вспылил отец, с досадой вспомнив барские, покровительственные слова Шмулика: «Не бойся, тебя не тронут». Он так и не понял, за что же его могут тронуть — за то, что с тринадцати лет, никого не угнетая и не унижая, с утра до ночи гнул спину?
— Ну почему же грязная? — своим вопросом мама словно попыталась отвести от брата обвинения.
— Ему самому кажется, что она чистая и благородная, что можно служить доброму делу и при этом без зазрения совести умножать зло, потакать ненависти, — объяснил отец. — Я, например, не смог бы уснуть в чужой, присвоенной трёхкомнатной квартире, а Шмуле хоть бы хны. Ну ладно, хватит о нём.
— Очень беспокоюсь за Айзика, — сказала Роха, когда страсти утихли. — Вчера ходила к Файну в пекарню за субботней халой. А он мне: «Что там слышно о вашем старшеньком?» Что слышно, говорю, ничего не слышно. Ни слуху ни духу. Тут он на меня страху нагнал. Немцы, говорит, в Париже. Маршируют вроде бы по главной улице.
— По Елисейским полям, — подсказал Мейлах.
— Неужели? — удивился отец.
— Да. Вот я и подумала. Зачем Айзик поехал во Францию? Он же сначала наладился не туда, а в золотоносную Америку. Одно дело бежать от немцев из Варшавы, — бабушка Роха скосила взгляд в сторону Мейлаха и Малгожаты, которые до этого, как от стужи, кутались в молчание, а затем продолжила: — И совсем другое — из Парижа… Пока добежишь оттуда к нам в глушь, можешь замертво свалиться. Не затевал бы всё это Айзик, сидел бы в Йонаве, выделывал шкурки, шил из них меховые шапки. На них и на воротники в Йонаве всегда был спрос. А сейчас вон сколько ещё офицерских жён сюда на зиму понаехало!..
— Может, им всё-таки удалось бежать в другое, безопасное место, — утешила свекровь мама.
— Что за времена, что за времена! — стала причитать бабушка. — Некуда от беды деваться. Убежишь от одной, а тебя тут же другая догоняет и хватает за подол.
За окнами на Йонаву пали сумерки. В просветах осенних туч серебрилась одинокая звезда — оказывается, одинокими могут быть и звёзды.
Мама накинула тёплое пальто на ватине и отправилась провожать бабушку Роху, которая и при свете дня плохо видела. Не задержались дольше и воспитанный Мейлах с Малгожатой. Полуночников их хозяйка Антанина не очень жаловала.
Мы с отцом остались вдвоём.
— А нашу школу не закроют? — спросил я.
— Одному Богу известно, что у новой власти на уме.
К Господу Богу я обращаться не стал. Спросишь, а ответа всё равно не дождёшься.
— Ступай, Гиршеле, спать, а я ещё немного построчу.
Уже в постели я услышал голос дворника Антанаса:
— Простите, понас Салямонас, что я так поздно. Юлюкас, чёрт побери, наконец, вернулся! Завтра он к вам явится.
— Спасибо.
— Может, глоток винца найдётся?
— Увы! Вино бывает у нас только на Пасху.
— До вашей Пасхи ещё так далеко! — сказал дворник и, разочарованно прощаясь, выпалил на идише: — Зайт гезунт!
Как и обещал Антанас, на следующее утро, ещё до прихода на работу Мейлаха и Малгожаты, к нам постучался младший подмастерье — заспанный Юлюс, которого все уже считали без вести пропавшим.
— Вот и я, — просто сказал он.
— Добро пожаловать, храбрый воин! — приветствовал его отец. — Что-то ты, любезный, быстро отслужил положенный срок.
Юлюс сначала замялся, вытер со лба росинки пота, заморгал ещё затуманенными сном глазами и неохотно признался:
— Да я, понас Салямонас, ни одного дня и не служил.
— Как же это получается? Тебя призвали в армию, а ты, выходит, ухитрился в ней не служить?
— Ни одного дня не служил и винтовку в руках не держал. Не был солдатом ни в литовской, ни в этой новой — Красной армии, — потупился Юлюс.
Если бы отец встретил своего помощника на улице, то вряд ли узнал бы его. Видно, ради маскировки парень отрастил короткую рыжую бородку, тонкие испанские усики, которые вёрткой змейкой проползли под крупным мясистым носом с широко распахнутыми, чуткими ноздрями. Одет Юлюс был намеренно небрежно: поношенная холщовая рубаха, широкие, залатанные штаны с потёртым кожаным ремнем, замасленная кепка.
— Где же ты обретался?
— Когда началась вся эта катавасия с поисками якобы похищенных среди бела дня красноармейцев, взаимными нотами-шмотами и угрожающими ультиматумами из Москвы и опровержениями из Каунаса, я сказал себе: «Пока не поздно, сматывайся, отсюда, Юлюкас. Скройся с глаз. Добром дело не кончится». Я сбежал со сборного пункта, добрался до Пренай, потом до курорта Бирштонас и там устроился в санаторий «Тюльпан» чернорабочим. Кем я только за это время не был — и грузчиком, и уборщиком, и полотёром, ел бесплатно, жил бесплатно в покинутой баньке на берегу Немана. Никто меня не искал, ни о чём не спрашивал, кто я, откуда. Требовали только одного: работай! Я и вкалывал.
Отец нисколько не сомневался в правдивости его слов, но он и подумать не мог, что тихоня Юлюс способен на такой решительный поступок, как дезертирство. Сметливый парень удачно воспользовался царившей повсюду неразберихой и рискнул. Новая власть объявила прежнее правительство и армию вне закона, но и сама в основном держалась на страхе большинства граждан, подкреплённом штыками.
— А ты, смельчак, надолго вернулся? Или снова махнёшь на свой курорт, в баньку над Неманом?