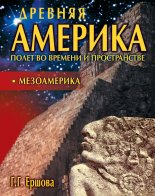Местечковый романс Канович Григорий

Никто из родственников деду Шимону не ответил. И рабби Элиэзер не разомкнул уста.
Все подавленно молчали.
— Может быть, Он потому нас разлучает и забирает поодиночке, что сам холостяк, — не унимался дед Шимон. — Вечный холостяк.
Кощунственное замечание повисло в воздухе чёрной тучей и не скоро растаяло между надгробьями.
Кто-то из провожающих негромко прыснул и быстро прикрыл рукавом рот, кто-то замахал на богохульника Шимона руками. А мама толкнула его в бок, и он, несчастный, пристыженный, медленно поплёлся от могилы к воротам.
Над кладбищем во всю мощь светило весеннее солнце. Казалось, сами небеса своим сиянием пытаются хоть как-то рассеять беспросветный мрак отчаяния, который объял безгрешную душу осиротевшего деда Шимона.
1938 год, начавшийся двумя смертями, ушёл в небытие без дополнительных потрясений и достойных какого-либо упоминания событий. Жизнь в Йонаве текла по старому, проверенному руслу и, как полноводная Вилия, по выражению бабушки Рохи, по-прежнему была нашей общей поилицей и кормилицей. Никто никого не убивал, не увечил, лавки не грабил. Евреев, слава Богу, на свет Божий родилось больше, чем умерло, и они, лишь бы не сглазить, по численности уже не только сравнялись с иноверцами, но даже обогнали их. Недаром домовладелец реб Эфраим Каплер, который больше всего в жизни ценил спокойный непрерывный сон, называл наше уютное местечко на немецкий манер Идиштадт — Еврейград.
Мой отец уставал каждому доказывать, что Йонава — это, пожалуй, лучший пример того, как должны и могут сосуществовать и уживаться представители разных народов. Он утверждал, что мир спасут не перевороты, не кровавые революции, не войны, а каждодневная честная работа. Когда человек работает, ему и в голову не придёт свергать какого-нибудь короля-правителя, чтобы взамен победители, как это чаще всего бывает, вручили бразды правления такому же тирану, не останавливаясь перед пролитием крови невинных.
Работы у отца и Юлюса в благословенном Еврейграде, слава Богу, было много, и оба никакими делами, не имеющими прямого отношения к шитью, не интересовались, не жалели себя, а вкалывали с утра до вечера. Может, поэтому даже их, совершенно равнодушных к новостям, встревожили слова хозяина пекарни Хаима-Гершона Файна:
— Чует, господа, моё сердце: скоро в Европе начнётся большая бойня! Как бы и нам с вами в Литве тумаков не надавали, — сказал Хаим-Гершон, который, по совету покойного реб Ешуа Кремницера, стал шить всю свою одежду не у Гедальи Банквечера, а у бывшего кавалериста Шлеймке Кановича.
Хаим-Гершон Файн вообще был личностью весьма приметной и, по местным меркам, крайне осведомлённой в том, что творится за пределами полусонного Еврейграда. Оборотистый реб Хаим-Гершон выпекал не только субботние халы, сладкие булочки, усыпанные корицей и нашпигованные заморским изюмом, ханукальные пирожки, но и самые горячие мировые новости. Каждый покупатель бесплатно получал их как бы впридачу к удивительно вкусным мучным изделиям. Свои горячие новости Файн извлекал не из докрасна раскалённой просторной печи, а из купленного во временной столице Каунасе голландского трехлампового приёмника той же самой марки, каким пользовался арестованный Шмулик Дудак.
— В начале прошлого года Германия скушала, как сдобную булку, ни в чём не повинную, беззащитную Австрию. Никогда не отличавшиеся отвагой австрияки сдались на милость победителям без всякого сопротивления. Да что там без сопротивления — капитулировали, я бы сказал, не без удовольствия, под вальсы и восторженные крики «Хайль, Гитлер!».
— Прошу вас, реб Файн, минуточку помолчите, пока больше ничего не рассказывайте. Я не могу примерить рукава, когда вы всё время вертитесь и размахиваете руками.
— Как тут, реб Шлейме, устоишь на месте, когда в наши дни в самом центре Европы происходят такие безобразия! Германия наглеет на глазах. В прошлом году при полном бездействии других стран немцы поставили на колени Австрию, а в недалёком будущем, может быть, и наша с вами, хе-хе-хе, вооружённая до зубов родная Литва падёт к их ногам.
Отец был озабочен не столько Австрией, сколько длиной рукавов нового пальто хозяина пекарни, но заказчику не терпелось поделиться с портным теми новостями, которые в своих утренних и вечерних выпусках регулярно бесстрастно сообщало литовское радио.
— Первым делом, как и следовало ожидать, после захвата красавицы Вены немцы взялись за наших — за тамошних евреев. Говорят, что там, на площадях и в скверах, валялись убитые и раненые… Солдаты на центральных улицах грабили богатые еврейские магазины…
— Значит, грабили… Так-так… Юлюс, рукава надо бы чуточку укоротить — на один-два сантиметра, не больше, — обратился отец к подмастерью, а затем, не ввязываясь в долгие споры, стал успокаивать взволнованного Хаима-Гершона: — Может, немцы до нас, до Литвы, всё-таки не доберутся. Одно дело — Австрия с её красотами и богатствами, и совсем другое — наша бедная и беззащитная родина, хотя в государственном гимне и говорится, что Литва — страна героев.
— Вы, Шлейме, недооцениваете угрозу. Ведь немцы у нас под боком, на противоположном берегу Немана. Они могут завести свои танки и часа за полтора легко до нас доберутся через мост в Пагегяй.
Доводы реб Хаима-Гершона Файна были неоспоримы, но отец не отступал.
— Подумайте сами: ну зачем немцам Литва? — вопрошал он. — Послушать вас, так для них тут единственная нажива — евреи. Богатеев у нас по пальцам пересчитаешь. Грабить вроде бы особенно некого. Может, говорю, всё обойдется, и немцы останутся на том, своём, берегу Немана и в нашу сторону свои танки не двинут.
— Дай-то Бог! — пробасил хозяин пекарни. — Будем надеяться. Что нам остаётся?
— Вы правы: испокон веков, реб Хаим-Гершон, главным нашим щитом от любого зла была надежда, — согласился с ним отец и добавил: — Другого вида оружия в нашем распоряжении пока нет. А что касается вашего пальто, то скоро, я думаю, вас можно будет поздравить с обновкой.
Незнакомую Австрию было жалко, но большим потрясением, чем её захват немцами, стала для отца повестка из военного ведомства Литвы — его способного помощника Юлюса, сына дворника-пропойцы Антанаса, призывали в армию.
— Что за напасть? Один подмастерье сидит в тюрьме, другого забирают в армию, а работы гора, — пожаловался он даже мне, мальцу. — Как, Гиршке, я с этой горой справлюсь? Ума не приложу, кто мне поможет её своротить… Может, ты, если согласишься стать моим помощником, — рассмеялся он. — Тогда мы с тобой так размахнёмся, что все нам будут завидовать.
Я ничего не ответил, потому что и сам не знал, кем хочу стать. Бабушка Роха мечтала, чтобы я после окончания идишской школы обязательно поехал учиться в Тельшяйскую ешиву «на раввина».
— Раввин — украшение рода. А у нас в доме до сих пор плодились, как мыши, только портные и сапожники.
Но я не хотел быть ни портным, ни раввином. Я мечтал стать, как наш сосед-шорник Цемах Либкинд, завзятым голубятником — его сизари, турманы, витютни кружили над моей головой с самых первых моих шагов на земле, и мне очень хотелось иметь такую же роскошную стаю и голубятню на чердаке.
Бабушка Роха высмеивала мое желание.
— Голубятник — не ремесло, а развлечение, — поучала она меня. — Вторым праотцем Ноем, пославшим благую весть с голубем, ты, Гиршеле, всё равно не станешь, Всемирного потопа не будет. Вилия, если и разольётся, всю землю не затопит, и тебе не понадобится сообщать Господу Богу, что все мы тут чудом спаслись.
Я очень сочувствовал отцу: без подмастерьев и впрямь было трудно, но помочь ему не мог.
Сделать это вызвалась мама. Она может-де выполнять работу, не требующую особого мастерства: утюжить брюки, пришивать пуговицы и примётывать накладные карманы на пиджаках, а при надобности — пришить сатиновую подкладку, но отец решительно отказался от её помощи.
— Хватит тебе работы у стариков Коганов! Мужчина, Хенка, может быть непревзойдённым дамским портным, но где это на белом свете видано, чтобы дама стала мужским портным?
Отец горбатился в мастерской днями и ночами в полном одиночестве в течение полугода. Но, как говорила бабушка Роха, человеку нет-нет да и чуточку повезёт в несчастье. К счастью, стрекот «Зингера» не нарушал драгоценный сон реб Эфраима Каплера. Тот больше не грозился из-за шума немедленно выселить нас на улицу. Его просто не было в Йонаве. Каплер на полтора месяца отправился на чешский курорт Карловы Вары, где ежедневно пил из источника целебную воду, пытаясь избавиться от давно мучившего его несварения желудка и нестерпимой изжоги. В его отсутствие отец мог скакать на своем «Зингере» хоть круглые сутки.
До возвращения Каплера оставалась неделя, когда в мастерскую на очередную примерку пожаловал Хаим-Гершон Файн и, не поздоровавшись, прямо с порога выпалил:
— Ну что я, реб Шлейме, вам говорил? Что я вам говорил?! Прошло совсем немного времени, и на тебе!
— Вы о чём? Простите, реб Файн, мы с вами о многом беседовали. Всего и не упомнишь. Моя голова не тем занята, — охладил его пыл отец.
— Сбылись мои самые мрачные предсказания. Так-таки всё сейчас всерьёз и начинается! И это уже не остановишь. Я как в воду глядел! Если в дело не вмешаются Англия и Франция, если они не приструнят эту разнузданную Германию, я не ручаюсь и за нашу безопасность. Всё пойдёт кувырком!
— Что начинается? Что пойдёт кувырком? — смутился отец.
— Всё в Европе пойдёт кувырком! Поймите, началась большая война. Немцы не насытились сдобной булочкой — Австрией, и теперь их войска вторглись в Польшу. Польские евреи бегут оттуда толпами, семьями, с малыми детьми и стариками, бегут, куда глаза глядят. Может, и к нам, в тихую Литву, скоро прибегут. Ведь до нас от них рукой подать. В хорошую погоду сюда можно за день-два даже пешком дойти.
Новость, что Германия напала на Польшу, мигом распространилась по местечку. Кто ломал голову над тем, что будет, если беженцы на самом деле хлынут в Литву, пусть и в малом количестве: куда их деть, где поселить, чем несчастные станут заниматься? Кто строил догадки, какими деньгами они будут платить за постой и за харчи, ведь у них нет ни одного лита.
— Ну, что вы, реб Шлейме, мне скажете про весь этот ужасный кошмар?
Отец в таких случаях предпочитал всем мудрым ответам долгое задумчивое молчание.
— А что, реб Хаим-Гершон, можно о кошмаре сказать? Кошмар он и есть кошмар. Тут ни прибавить, ни убавить, — промолвил он после спасительной паузы.
— Беда, — согласился хозяин пекарни. — Осень на исходе. Зарядят наши бесконечные дожди, их сменят зимние холода и метели. А у беженца какая поклажа? Может, в руке только один парусиновый чемоданчик. Многие, наверное, пустились в бега в том, в чём были. Я по этому поводу уже успел переговорить с рабби Элиэзером. Евреи, сказал он, не должны оставаться в стороне от чужого горя, мы обязаны помочь своим страждущим братьям по вере. Надо создать совет из состоятельных членов общины для помощи беженцам-евреям.
— Попавшим в беду нужно помочь, спору нет, — подтвердил отец. — Но не обернётся ли, как всегда, эта помощь только нашими сочувственными восклицаниями и причитаниями? Поохаем, повздыхаем, уроним из жалости братскую слезу, и на том всё закончится.
— Не знаю, но я лично уже принял решение: когда беженцы появятся, то, пока они не устроятся и не найдут работу, моя пекарня берётся для каждого из них первое время бесплатно печь вкусный чёрный хлеб.
— Ого!
— Постараемся испечь его столько, чтобы хватило на всех. Рабби Элиэзер рассказал мне, что договорился со всеми старостами малых синагог, и те обещали приютить обездоленных, обеспечить их временным жильём. Каждый из нас должен что-то сделать, — сказал довольный собой хозяин пекарни и покосился на молчаливого, вечно хмурого собеседника.
— Бесплатный хлеб и временная крыша над головой — это замечательно, — кивнул отец.
— У меня голова ещё, слава Богу, варит, — похвалил самого себя Хаим-Гершон Файн, которому были свойственны совершенно несовместимые качества — безусловная набожность и самодовольное щегольство, щедрость и прижимистость.
Всегда элегантно одетый, чисто выбритый, надушенный, он сам в пекарне у печи целыми днями не жарился. Всё делали наёмные рабочие — двухметровый литовец из Жагаре и местный широкогрудый, скуластый еврей Иехезкель. Они таскали мешки с мукой, месили тесто в кадушках, пекли хлеб и кондитерские изделия на любой вкус — для богатого лавочника и для бедного крестьянина, для раввина и для ксендза. Для всех, кто платил.
— Вы, реб Хаим-Гершон, хорошо знаете, что иголкой хлеб не испечёшь, и крыши у меня до сих пор не то что лишней, а и своей собственной нет, — сказал отец. — Но что я и впрямь могу с радостью сделать для своих собратьев, так это взять к себе на работу двух беженцев-портных и положить им вполне приличное жалованье.
— Какая чудная идея! Давайте их искать вместе. Ручаюсь, что какой-нибудь портной среди них непременно отыщется и завернёт в мою пекарню. Хлеб, скажу я вам, Шлейме, — могучий магнит, он притягивает всех! — ухватился за предложение отца довольный собой Хаим-Гершон Файн.
Младший подмастерье Юлюс, целиком занятый последними приготовлениями к армейской службе, узнал о разразившейся в Европе войне позже других. О ней он впервые услышал от моего отца только в тот день, когда пришёл к нему попрощаться.
— Мне кажется, что мы, литовцы, ни с кем воевать не будем. Нет у нас ни танков, ни самолетов, ни пушек, ни лишних людей. Слабый не должен вмешиваться в дела сильных. Ему надо не размахивать кулаками, а выждать, чем закончится драка, — сказал Юлюс, как бы утешая себя и своего учителя,
— Твои бы слова да Богу в уши, — покачал головой отец. — Бывает же так, что вблизи твоего дома гром грохочет, молнии полосуют небо, а гроза проходит мимо.
— Буду молиться, чтобы она прошла мимо, — прогудел Юлюс и вдруг в упор спросил: — Скажите, понас Салямонас, когда я отслужу и вернусь в Йонаву, вы меня снова к себе возьмёте?
— Возьму. Конечно, возьму. Ты способный и старательный ученик. Из тебя может выйти толк.
— Спасибо. Теперь мне служить будет легче. И ещё один вопрос. Можно?
— Можно.
— Я слышал, что за примерную службу солдата могут отпустить на короткую побывку домой. Если меня на парочку дней действительно отпустят, могу ли я сразу подняться из подвала к вам?
— Конечно, ты же не чужой, а свой человек. Поднимайся, я только рад буду.
— Но я имею в виду не просто подняться, чтобы с вами о том о сём поговорить.
— А что ты имеешь в виду?
— Я хотел бы свой отпуск провести, как бы это сказать, с пользой, что ли, — промолвил Юлюс, не лишённый крестьянской смекалки. — Сесть, понас Салямонас, рядом с вами, на своё прежнее место, вон там, на мой табурет, и поразмять денёк-другой пальцы. А также кое-что, не скрою от вас, заработать. Отец по-прежнему пьёт, мать не может с ним справиться и терпит. Надо бы ей немного оставить на пропитание… Я готов делать всё, что скажете. Вы не против?
— Я никогда не был против того, что кто-то желает работать и зарабатывать.
— Откровенно говоря, мне армейская служба не нравится. Мой дружок Пятрас Кяушас из Скаруляй рассказывал, что там от муштры свихнуться можно. Каждый день: «Смирно!», «Вольно!», «Ложись!», «Вставай!», «Винтовку к но-ге!», «Винтовку на пле-чо!» Портным быть лучше, чем солдатом. А вам одному, наверное, теперь придётся нелегко.
— Лёгкой работы, Юлюс, на свете не бывает, если работаешь на совесть. Мастер на то и мастер, что должен каждый день полностью выкладываться и доказывать, что он работает лучше других.
— А что слышно о понасе Шмуле?
— Сидит.
— Сколько ему ещё осталось?
— Если станет умнее и что-нибудь снова не натворит, может, выйдет раньше срока.
— Понас Шмуле умный.
— Умные, Юлюс, в тюрьме не сидят и добывают свой хлеб не под надзором конвойного, а под охраной и защитой Господа Бога.
Перекрестившись, призывник стал прощаться. В дверях Юлюс столкнулся с бабушкой Рохой, которая принесла сыну, оставшемуся в полном одиночестве, обед — суп с клёцками и тушёную телятину с картошкой.
— Сядь и при мне всё съешь! — приказала она. — Ты хоть что-нибудь сегодня в рот брал?
Отец виновато улыбнулся.
— Нет, конечно. Так и помру на работе с голоду.
Бабушка Роха усадила отца за стол, села напротив и не без ехидства пропела, как малому дитяти:
— Ешь, Шлеймеле, ешь! Если будешь есть, вырастешь большой-пребольшой, сильный-пресильный, тогда никто тебя пальцем не тронет, но если ты перестанешь меня слушаться, я тебя, неслуха, цыганам отдам, и они увезут тебя к себе в табор.
— Не хочу, мама, к цыганам! Буду тебя слушаться, — деланно плаксивым голосом подхватил её насмешливую манеру растроганный сын и принялся уплетать суп и мясо, причмокивая от удовольствия.
— Тебе одному, видно, трудно справляться. Нашёл бы себе какого-нибудь помощника.
— Ищу, ищу. В местечке на примете никого нет. Может быть, скоро кто-нибудь появится. Ты, наверное, уже слышала про войну немцев с поляками. Евреи бегут из Польши кто куда. Глядишь, и к нам в Йонаву забредут — тут всё-таки Еврейград. Будет им к кому притулиться. Среди беженцев, полагаю, портные попадутся.
— Слышала и про войну, и про то, что там немцы раввинам бороды спичками подпаливают. На базаре чего только от людей не услышишь! Больше, чем по этому Шмулиному ящику. — Роха бросила взгляд на пустую тарелку и улыбнулась: — Молодец! Всё дочиста вылизал!
— Было очень вкусно! Спасибо.
— То-то! — сказала бабушка и продолжила: — И про этих беженцев слышала, и про этого проклятого Гитлера. Надо же! В моей юности, когда через Вилию ещё моста не было, на другой берег реки и люди, и скот на пароме переправлялись. А паромщиком тогда был такой косоглазый верзила с длинными, как вёсла, руками — Хитлер. Мейшке Хитлер из Кейдайняй. А этого головореза из Германии как зовут?
— Ну уж не Мейшке и не Шмульке. Его зовут Адольф.
— Ну что тут скажешь: в гнилое время и имена собачьи! — бабушка Роха посерьёзнела. — Как бы только и нам отсюда не пришлось улепётывать. Они из Польши в Литву бегут, а куда нам податься, если прижмут? В Россию? Туда нас не пустят, всех на границе, как зайцев, переловят. В Латвию? Да у них своих евреев полно, не знают, куда их девать.
— Гадай не гадай — не угадаешь. Пока мы живы, от этого гнилого времени никуда не спрячешься. Нет от него убежища. Ты мне лучше скажи, как отец?
— Тыкает шилом и стучит молотком.
— Кашляет?
— Ещё как! И харкает.
— Кровью?
— Иногда.
— Ему бы в Каунас съездить, у Мотла и Сары на Зеленой горе погостить, внучку Нехаму увидеть, докторам показаться. Я могу ему компанию составить. Как говорят наши староверы, работа не волк, в лес не убежит.
— Про Каунас отцу и заикаться нельзя. Он ведь тебе что ответит? Куда, мол, в такую даль тащиться только для того, чтобы тебя ощупали, как лошадь. До Каунаса, скажет, неблизко. А дома шаг шагнёшь, и ты в постели, два шагнёшь — и на дворе в нужнике. Я ему в ответ: «От дома, Довид, до кладбища тоже недалеко!» Поговори с ним, Шлейме, — попросила бабушка Роха. — Может, тебя он послушается и покажется докторам.
— Ему говори не говори, всё равно что стене. Отец слушает только своих клиентов.
Роха вымыла посуду и уже собиралась уйти, как вдруг схватилась за голову:
— Про главное-то я, беспамятливая, и забыла. Вчера Казимерас письмо принёс. Два месяца шло.
— Письмо? Откуда? От кого?
— Из Парижа. От твоего брата Айзика. Ты мне его прочти, а я потом всё перескажу отцу, который не может оторвать свой зад от колоды. Что за человек? Упрямец! Не иначе, как собирается предстать перед Всевышним с молотком и шилом в руках!
Отец взял письмо и углубился в чтение.
— Там всего два листочка, а ты изучаешь их, как Тору. Что Айзик пишет?
— Что пишет? — повторил отец, как бы разгоняясь. — Шлёт всем привет — от него, от Сары и двух твоих внуков — Береле и Йоселе. С жильём и работой у них, слава Богу, всё неплохо. Мсье Кушнер снова повысил Айзику жалованье. Только на душе у них с Сарой тревожно.
— Тревожно?
— Войны боятся. Французы заступились за поляков, а немцы на них за это страшно обозлились. Айзик опасается, что те могут двинуть свою армию на Париж и тогда тамошним евреям придётся несладко.
— Будь проклято их семя! — выругалась богомольная бабушка Роха.
— Айзик не за себя боится, а за своих мальчиков, очень-очень. В следующий раз, если всё утихнет, он пришлёт фотокарточки Йоселе и Береле в деревянных рамках.
— Мог раньше прислать, — Роха поджала губы. — Были бы у меня под боком три внука — один живой и два в рамочках. Любовалась бы на них перед сном. А теперь жди!
— Ещё он пишет, что обстановка в мире такая, что в этом году они в гости в Литву не приедут, разве что опасность минует, в чём они и Сарой очень сомневаются.
— И это всё?
— Ну а дальше, как водится в письмах издалека, поцелуи и объятья.
Роха ушла с опорожнённой посудой в руках, пообещав сыну, что завтра его ждут не менее вкусные блюда — фасолевый суп, куриная грудка и компот из сухофруктов…
Беженцев в Йонаве ещё не было, и отцу приходилось обходиться без помощников, отказываясь в ущерб заработку от новых заказов — успеть бы в срок выполнить старые. Переманивать подмастерьев у других мастеров отец считал ниже своего достоинства.
— Закончил бы ты, Гиршке, скорее школу, — в шутку обратился он ко мне. — Стал бы моим компаньоном, заказали бы мы с тобой вывеску «Шлейме Канович и сын», — он расхохотался. — Я тебя быстренько обучил бы своему ремеслу. Ты, наверное, и знать не знаешь, что твой папа совсем молоденьким птенчиком в разгар Первой мировой войны поступил в ученики к нашему земляку Шае Рабинеру. Я был тогда не намного старше тебя. Мне шёл тринадцатый год. Мой самый первый учитель Рабинер не только замечательно шил, но и на скрипке играл.
— Я хотел бы, папа, тебе помочь, но… — я замялся. Скажи я правду, отец не обрадуется, а соври, он хоть и не вытянет ремнём, но обидных слов не пожалеет.
— Тебе не нравится быть портным?
— Портной должен всё время сидеть на одном и том же месте, а мне больше по душе, когда я куда-нибудь бегу, лезу, карабкаюсь.
— Ну что же! В твои годы я тоже бегал и по деревьям лазил, а потом жизнь вынудила привинтить одно место к стулу, — сказал отец и шлёпнул себя по этому самому месту. — С тех пор не бегаю, а сижу. Хлеб для всех нас высиживаю.
Он был фанатиком. Мама уверяла, что папа любит работу больше, чем её, и столько лет подряд, Бог свидетель, изменяет ей не с женщиной, а со своей швейной машиной. Машина никогда не ворчит и не дуется на него, никогда не ругает, не ссорится с ним из-за мелочей, всегда и во всём ему уступает.
Я был слишком мал, чтобы понять эти мамины сетования, но по мере взросления убедился в её правоте. Может быть, благодаря упорству отца, его кропотливому, в праздники и в будни, труду он прожил дольше всех своих родственников и скончался в очень и очень преклонном возрасте. Казалось, отец и во сне до своего смертного часа кроил сукно и нажимал на педаль швейной машины. Недаром он подшучивал над собой и поутру, смеясь, спрашивал маму:
— Слышала, как я в постели строчил на «Зингере»?
Хотя мама поздно возвращалась от Коганов, она рвалась ему помочь, но отец с дружелюбным высокомерием пресекал эти попытки.
— Иди спать! — приказывал он. — Без тебя справлюсь.
— Твоя мама Роха умеет и подмётки прибивать, и набойки приклеивать. Её сапожничать никто не учил — сама научилась. И я, как она, сама научусь, только портняжить. Не хочу всю жизнь ходить в чьих-то служанках. Зря когда-то отказалась от предложения реб Ешуа Кремницера поехать в Каунас на курсы и выучиться на белошвейку. Боялась тебя потерять!
— Зря отказалась и зря боялась, — смягчился он. — Никуда бы я не делся и сам бы тебя нашёл.
— Знаем, как вы ищете, и знаем, кого вы находите, — огрызнулась мама.
— Незачем нам с тобой ссориться. Ладно, ты мужиков знаешь лучше, чем я, — уступил отец. — Когда немного отдохнёшь, тогда и начнём учиться. Снимешь с меня мерку.
— Мерку?
— А чему ты удивляешься? С неё и начинается настоящий портной. Сантиметр, как говорил мой учитель Шая Рабинер, — мостик к славе портного. Если снимешь точную мерку, хорошо сошьёшь любую одежду на любой рост. На великана и на карлика. Если же, скажем, на толику, на два-три деления ошибёшься, считай, всё пропало. Садись и всё переделывай. А толкового клиента к передельщику второй раз не заманишь, на аркане не затащишь…
— Вот как!
— Шая Рабинер, — отец неожиданно расслабился и пустился в приятные воспоминания о своём ученичестве, — всячески одобрял мою старательность, но мерку долго снимал сам, свой замусоленный сантиметр мне, юнцу, не доверял. Учиться шить, твердил он, надо не год и не два, а всю жизнь, ибо каждый заказчик — неповторимая, ни на кого не похожая модель, требующая особого подхода.
Мама слушала и смотрела на отца с безобидным сочувствием. Что с него возьмёшь? Заговаривает зубы.
— Пойми, Хенка, — сказал он, — хорошая верная жена — тоже профессия. Может быть, самая трудная и важная на свете. Одеть человека — одно дело, а родить его и вскормить — совсем другое. Стоит ли тебе менять такую профессию? — отец помолчал и добавил: — По-моему, не стоит.
— Я вовсе не собираюсь становиться портнихой и не возражаю, чтобы мерку всегда снимал ты. Но пока не найдёшь себе помощника, я чему-нибудь всё-таки научусь и постараюсь принести какую-то пользу.
— Спасибо. Но ты же у этих Коганов устаёшь так, что вечером с ног валишься. Тебе что, нагрузки не хватает?
— За меня не беспокойся! И не пытайся своими вымученными комплиментами отговорить! Лучше давай вывешивай белый флаг! — улыбнулась мама.
Отец хорошо знал её нрав — непрерывным подпиливанием его мнимой стойкости она всё равно добьётся своей цели. Если благоверный не пойдёт навстречу и откажется выполнить её желание, жена, чего доброго, в один прекрасный день прибегнет к крайней мере — возьмёт и оккупирует его швейную машину.
— Пусть будет по-твоему. Сдаюсь.
Так уж повелось у нас, что никому, кроме мамы, не удавалось одерживать над моим отцом такие скорые и лёгкие победы. Белый флаг трепетал над нашим домом до самой её преждевременной кончины.
— Скорей бы из Расейняй вернулся наш Ленин-Сталин, — вдруг, как в таких случаях говорила находчивая бабушка Роха, свернул в другой переулок отец.
— Может, Шмулику и впрямь удастся вернуться из колонии до срока. Был у Коганов доктор Блюменфельд, приходил к заболевшей Нехаме, у неё начался сильный приступ астмы. И знаешь, что он рассказал? Я сначала даже не поверила. Но не может же доктор говорить неправду!
— Все могут привирать. И что же такое невероятное рассказал милейший доктор Блюменфельд?
— Он сказал, что, по договору с нашим президентом Сметоной, в Литву беспрепятственно вошла Красная армия. Больше двадцати тысяч человек. Танки с красными звёздами на броне уже как будто ночью прошли мимо нашей Йонавы и разместились в пяти километрах от нас на полигоне в Гайжюнай.
— Неужели мы с тобой, засони, проспали такое важное историческое событие?
— Проспали.
— По-твоему, теперь русские танки могут смело двинуться и на колонию строгого режима в Жемайтии, чтобы освободить нашего Ленина-Сталина?
— Я так не думаю, — ответила мама. — Доктор Блюменфельд сказал, что русские пришли в Литву для того, чтобы охранять нас от немцев, а в конце ещё добавил, что если уж русские приходят, то это надолго, а может случиться, что и навсегда.
На улицах Йонавы советские офицеры, или, как их в то время называли, красные командиры, появились гораздо раньше, чем евреи-беженцы из разгромленной Польши. В первое время они старались не выделяться, держались особняком и маленькими группками бесцельно бродили по местечку. Изредка русские заглядывали в какой-нибудь мануфактурный или галантерейный магазин или фотографировались на фоне старинного кирпичного костёла, острый шпиль которого вонзался в небеса. Военные снимали смирную Вилию, добросовестно катившую свои воды в Балтийское море, хутора с крытыми дранкой или соломой крышами, одинокие сосны и мирно пасущихся идиллических коров на берегу.
Кроме староверов, привозивших на рынок свои товары, никто в местечке без переводчика договориться с нежданными гостями не мог. Евреи русского языка не знали, если не считать нескольких оставшихся в местечке древних старцев, которые когда-то служили в царской армии или в годы Первой мировой войны как мнимые германские шпионы были, по указу императора Николая II, поголовно выселены с пограничной полосы и сосланы в глубь России и в Белоруссию.
Прогуливавшиеся по городку танкисты сначала напоминали старожилам глухонемых — они объяснялись с местным населением преимущественно на пальцах, мимикой, приветливыми улыбками и просительными взглядами. Но вскоре общение наладилось. Расположенная в Гайжюнай танковая бригада время от времени пополнялась машинами и новобранцами — рядовыми красноармейцами и командирами. Среди новобранцев то ли случайно, то ли для связи с местным населением оказался старший лейтенант Валерий Фишман, еврей из Гомеля. Он и стал постоянным поводырём и толмачом для сослуживцев, но из-за редкого употребления родного идиша в советском быту изъяснялся на весьма и весьма обеднённом его варианте. В начале своего пребывания в неведомой географической точке — Йонаве — красные командиры проявляли к торговым объектам только вялое и бескорыстное любопытство. Они были обыкновенными праздными зеваками, которые присматривались к выставленным в витринах товарам не местного, а заграничного производства. Но не прошло и двух месяцев, как пришельцы пообвыклись в новой обстановке, по воскресеньям в компании со старшим лейтенантом Фишманом стали чаще заходить в лавки, особенно галантерейные и мануфактурные, и робко прицениваться к товарам.
Забрели они и в магазин реб Эфраима Каплера.
Вернувшийся с лечения в Карловых Варах посвежевший хозяин магазина по натуре был прирождённый торговец. Он делил человечество не на расы и национальности, а только на покупателей и непокупателей. С особым почтением и вежливостью реб Эфраим обходился с военными и полицейскими чинами. С теми, на чьей стороне сила, лучше перебрать с улыбками, чем смотреть на них косо. Не грех вести себя вежливо и со свалившимися, как снег на голову, советскими офицерами. В далекой юности Каплер служил в царской армии, в Рыбинске, и с тех пор чудом сберёг в памяти небольшой запас русских слов, в основном ругательства, которые после большевистской революции привёз с собой на родину в Литву.
— Здравий желай, — приветствовал он гостей, порывшись в памяти. — Я теперь по-русскому много хорошо не говорю.
— Ир кент рейдн идиш, их вел ойстайчн айере вертер[38], — ответил на это русский офицер.
— О-о-о! — застонал реб Эфраим Каплер, и было неясно, чего в этом стоне больше — то ли деланной радости, то ли ловко скрытого недоумения.
Красные командиры долго разглядывали полки с товарами в ярких разноцветных упаковках. Прощаясь с приветливым хозяином, пытавшимся кое-что сказать «по-русскому», они приобрели на литовские деньги недорогие мелочи — зубную пасту, крем для бритья, душистое мыло, а в знак уважения Эфраим Каплер подарил Валерию Фишману и каждому из его спутников по красивой костяной расчёске.
В субботу, как обычно, бабушка Роха взяла меня с собой в Бейт кнессет а-гадоль, но у самого входа я был вынужден с ней расстаться. Она поднялась на балкон к женщинам и, как всегда, села в первом ряду, чтобы обозревать весь зал и лучше слышать тех, кто внизу. А я, десятилетний мальчишка, по праву занял место на мужской половине и расположился поближе к той, близкой к биме, скамье, где восседали Эфраим Каплер и хозяин пекарни Хаим-Гершон Файн. Пусть, как наказывала мне бабушка, люди увидят, что в нашей семье не все мужчины отъявленные безбожники.
Не успел рабби Элиэзер приступить к чтению недельной главы Торы «Толдот» про Ицхака, праматерь Ривку и их близнецов Иакова и Ешуа[39], боровшихся друг с другом за первородство, как весть о советском еврее-танкисте, проходящем службу в Гайжюнай, мигом облетела весь Божий дом и чуть не затмила субботнюю проповедь. Эта новость отвлекла внимание богомольцев от рассказа о том, кто кого при родах праматери Ривки ухватил за пятку, чтобы присвоить себе первенство. Она заставила всех переключиться с Ицхака и Ривки на «еврейского офицера». Мужчины стали потихоньку обсуждать причины того, с какой целью или с каким тайным заданием этот командир вдруг появился в Йонаве. Ведь до сих пор на службе во всей литовской армии состоял только один-единственный офицер иудейского вероисповедания — её главный раввин с морозной фамилией Снег.
— Хоть убейте, не понимаю, зачем нормальному еврею становиться танкистом? — басовитый Хаим-Гершон Файн наклонился к своему соседу Эфраиму Каплеру, уткнувшемуся в молитвенник.
— Вы меня спрашиваете? Мне всегда больше нравились пешие евреи и без воинского звания, — ответил реб Эфраим. — Поговорим обо всём более подробно, когда закончится служба. Неудобно в доме Господа вести такие беседы. Я уверен, что кто-кто, а евреи-танкисты Его очень мало интересуют.
— Что правда, то правда, — вздохнул хозяин пекарни Хаим-Гершон Файн, бессменный обозреватель и толкователь всех важнейших событий в мире.
Наконец служба завершилась, и богомольцы начали расходиться.
Бабушка спустилась сверху, отыскала меня в толпе и вызвалась проводить до самого дома.
— Сдам тебя с рук на руки родителям и буду всю ночь спать спокойно, — сказала она и увязалась за Каплером и Файном, чтобы, по её выражению, краем уха послушать, о чём толкуют не какие-нибудь сапожники, а солидные и знающие люди.
— Вы действительно верите, что русские пришли защитить нас от немцев? — не давал отдышаться Каплеру озабоченный Хаим-Гершон Файн.
— Не верю, — отрубил реб Эфраим. — Вы где-нибудь видели в мире страну, армия которой защищала бы евреев?
— Не видел. Нет такой армии.
— То-то. Ещё хорошо, что в некоторых странах нас терпят. Меня, реб Хаим-Гершон, беспокоит не то, от кого именно они нас будут защищать, а совсем другое. Как бы наши с вами гости в одночасье не стали хозяевами…
— Упаси Боже!
— Русские с Господом Богом ещё во время революции в семнадцатом году прервали дипломатические отношения. Если они тут окажутся хозяевами, тогда прощай ваша замечательная пекарня и ваш особнячок над Вилией, мой трехэтажный дом, галантерейный магазин и все наши сбережения в банке. Большевики всё отберут. Как вам, наверное, известно, в России частной собственности нет.
— Известно, известно, — поддакнул Хаим-Гершон. — Там всё в собственности только одного человека — усатого рябого грузина, сына сапожника.
— Простой человек хозяйничает у них только в песнях, — сказал реб Каплер. — Пока немцы и русские не трогают друг друга и мирно делят добычу, мы можем не волноваться, но кто может поручиться, что в недалёком будущем эти волки не перегрызутся?
На прощание Каплер протянул Файну руку и исчез в подъезде своего дома.
Мрачные предсказания реб Эфраима о том, что русские станут хозяевами, казались несбыточными. Танкисты вели себя по-дружески, совсем не по-хозяйски. В выходные дни для неизбалованной зрелищами публики они устраивали на базарной площади концерты. На выстроенном наспех деревянном помосте солисты и хор красноармейцев пели о границе, над которой «тучи ходят хмуро», Катюше, которая выходила «на берег крутой», лихо отплясывали русского, гопака и лезгинку. В кинотеатре «Гелиос» Евсея Клавина две недели подряд крутили фильм «Чапаев». Зал съёживался, когда отважный красный командир в ярости мчался на белогвардейцев и замахивался с экрана шашкой, казалось, не столько на лютых врагов, сколько на зрителей.
Одни зеваки на базарной площади, аплодируя после каждого номера, до красноты отбивали ладоши. Другие, выходя из битком набитого кинотеатра Клавина, вытирали скупую слезу, жалея утонувшего в реке Урал лихого Чапаева. Кто-то по дороге домой, услаждая свой слух, продолжал мурлыкать перевранный куплет про Катюшу, которая на таинственном для зрителей берегу поклялась сберечь любовь к солдату, стоящему на страже своей любимой советской родины.
Евреев на этих представлениях бывало, как правило, больше, чем литовцев, которые сторонились русских певцов и танцоров в пилотках с пятиконечными звёздами. Видно, «родного и любимого Сталина» и «кипучую, могучую, никем не победимую Москву» мало кто из них всерьёз считал своими надёжными защитниками.
— Что это вам дома не сидится? — допытывался «почти еврей» Винцас Гедрайтис, встретив бабушку Роху возле пекарни Хаима-Гершона Файна. — Зачем вы толпами валите на площадь, где вам подсовывают Бог весть какой товар? Как бы ваша радость от этой «Катюши» не аукнулась вам большой печалью. Вы меня, Роха, давно знаете. Я вам зла не желаю и, по возможности, всегда стараюсь уберечь от всяких ненужных неприятностей.
— Знаю, понас Винцас, знаю. Дай Бог вам здоровья за ваше доброе сердце и такое отношение к нам!
— Поэтому я ничего и не собираюсь от вас скрывать. Только то, что скажу, пусть останется между нами.
— Можете не сомневаться.
«Почти еврей» Гедрайтис помолчал, набрал в лёгкие побольше воздуха и произнёс:
— Наше высокое начальство вами очень недовольно. То есть вашими людьми. Подумайте, с кем вы преждевременно братаетесь? Чем вас эти русские так заворожили? Только, ради Бога, на меня не ссылайтесь! Я вам ничего не говорил! Ибо, если моё начальство узнает, что я болтаю лишнее, оно меня ещё до пенсии вышвырнет со службы.
— Я на концерты не хожу. И мои близкие не ходят. И реб Эфраим Каплер там не бывает, и хозяин пекарни Хаим-Гершон Файн на площадь не торопится, и доктор Блюменфельд туда носа не кажет, — зачастила Роха. — Половина местечка дома сидит. Умные люди, понас Винцас, не песни слушают, а деньги зарабатывают.
— Не все, не все. Вы всё-таки передайте своим собратьям — пусть не привечают чужаков и лучше поют собственные песни. Мало ли чего ещё может случиться в этом мире…
Бабушка Роха не лгала. И Эфраиму Каплеру, и Хаиму-Гершону Файну, и доктору Ицхаку Блюменфельду, и парикмахеру Науму Ковальскому, и моему отцу не было никакого дела ни до влюблённой Катюши, ни до «кипучей, могучей, никем не победимой» страны Советов, ни до её вождя — «родного и любимого Сталина», ни даже до танкиста Валерия Фишмана. Тоже мне доходная профессия для нормального еврея, как сказала о его роде деятельности бабушка Роха.
Отец по-прежнему строчил на швейной машине и ждал, как Машиаха, первого беженца-портного из Польши. Как же он просиял, когда на пороге мастерской показался предполагаемый ангел с благой вестью об этом — Хаим-Гершон Файн! Сейчас хозяин пекарни войдёт и, широко улыбаясь, скажет: «Я нашёл для вас, Шлейме, помощника!»
— Порадуемся: четыре семьи из Белостока спаслись от верной гибели и благополучно добрались до Йонавы! — действительно возвестил Файн.
— Может, вам, реб Хаим-Гершон, удалось среди них найти для меня портного?
— К сожалению, нет, но я уверен, что вам повезёт. У меня хороший нюх на удачу. От вас требуется немного терпения, которого у нас, евреев, нет. Подай сразу, выполняй тут же! Не падайте духом! Может, чуть позже отыщутся и портные. Поток из Польши ещё только начался.
— Что ж, буду ждать.
— Надеюсь, Шлейме, долго ждать не придётся. А пока мы должны позаботиться о тех, кому удалось вырваться из немецкого ада.
Поток беженцев и впрямь набирал силу, но в Йонаву влился маленький ручеёк — пятнадцать человек.
Во все времена евреи-изгнанники и беженцы за теплом и защитой в первую очередь обращались в дом Божий. Рабби Элиэзер заблаговременно приготовился к их приёму. Созданный им синагогальный комитет принял единогласное решение выдать каждому беженцу из кассы взаимопомощи денежное пособие. Кроме того, община обязывалась обеспечить всех трудоспособных жильём и работой, устроить детей в школу, направить больных на осмотр к доктору Ицхаку Блюменфельду, поимённо переписать новичков, а списки представить в полицию, чтобы выхлопотать для каждого из них вид на жительство в Литовской республике.
Надежды моего отца оправдались — среди беглецов всё-таки нашелся молчаливый мужчина, который работал закройщиком в одном из ателье в предместье Варшавы и бежал от немцев в Литву со своей невестой-полькой.
— С вас, Шлейме, магарыч! Вот вам помощник! Варшавский портной! — показал на смущённого беженца Хаим-Гершон Файн. — Знакомьтесь!
— Мейлах Цукерман[40], — представился тот, застыв на месте.
— Сахарный король, — улыбнулся ему отец.
— Голый король, — ответил носитель царственного имени.
— Сколько лет шьёте?