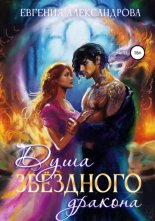Клиника: анатомия жизни Хейли Артур
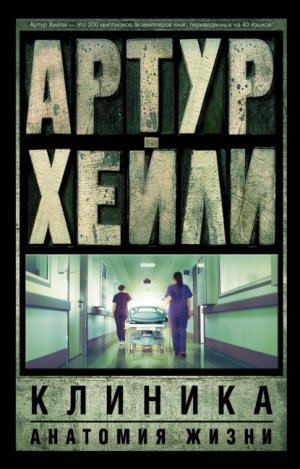
О’Доннелл зарегистрировался, поднялся в номер, принял душ и переоделся. Потом он достал из сумки программу хирургического конгресса — удобного предлога для поездки в Нью-Йорк. Из всей программы его интересовали три доклада — два об операциях на открытом сердце, а третий о протезировании артерий. Первый доклад запланирован на завтра, на одиннадцать утра, так что у него масса свободного времени. О’Доннелл посмотрел на часы, было около семи. До встречи с Дениз оставалось больше часа. Лифтом он спустился на первый этаж и заглянул в «Пирамиду».
Было время коктейлей, и зал наполнялся публикой, собиравшейся на званые ужины и в театры. Люди в большинстве своем были приезжими. Метрдотель провел О’Доннелла к столику, и, пока они шли через зал, Кент заметил, что на него с интересом смотрит сидевшая в одиночестве привлекательная женщина. О’Доннелл был избалован женским вниманием, и в прошлом это имело бы продолжение. Но сегодня О’Доннелл мысленно сказал незнакомке: «Прости, но у меня другие планы на сегодняшний вечер». Он заказал виски с содовой и, когда официант принес выпивку, принялся медленно смаковать напиток, предаваясь праздным мыслям.
Такие моменты были большой редкостью в Берлингтоне. Тем и хороша возможность уехать хотя бы на время; такие отлучки обостряли чувство перспективы, давали возможность осознать, что многие вещи, казавшиеся дома чрезвычайно важными, — сущие пустяки.
Он огляделся. Зал был уже забит, официанты сновали между столами, разнося напитки, которые без устали смешивали три бармена. Несколько компаний, покончив с коктейлями, вышли из бара. Интересно, подумал О’Доннелл, эти люди — мужчина и девушка, сидевшие за соседним столиком, и четверо приятелей, только что покинувшие заведение, — слышали когда-нибудь о клинике Трех Графств, а если слышали, интересовало ли их то, что там делается? Сам-то он с недавних пор чувствовал, что дела клиники становятся для него воздухом, без которого он не может дышать. Не болезнь ли это? Хорошо ли это для его профессионализма? О’Доннелл никогда не доверял увлеченным и самоотверженным людям — со временем они становятся одержимыми, а это подрывает способность к здравым суждениям. Не становится ли таким одержимым он сам?
Взять пример с Джо Пирсоном. В какой-то момент он, как главный хирург, пришел к твердому убеждению, что клинике нужен второй патологоанатом. Но не слишком ли он был пристрастен к старику, не преувеличивал ли допущенные им организационные недостатки — в каком отделении их нет? — не раздувал ли их значение? Ведь он даже хотел предложить Пирсону уйти. Не было ли поспешное суждение о старом враче симптомом нарушенной способности к здравому мышлению? После всего этого Юстас Суэйн отчетливо дал понять, что пожертвует на клинику четверть миллиона долларов только в том случае, если Пирсон будет по-прежнему руководить отделением патологической анатомии. Сейчас О’Доннелл чувствовал, что Суэйн поступил более здраво, чем он сам поступал в отношении Пирсона. При любом раскладе старый патологоанатом может еще очень многое сделать для клиники. Нельзя же, в конце концов, сбрасывать со счетов накопленный за несколько десятилетий опыт.
Да, подумал О’Доннелл, умственные способности действительно улучшаются, когда уезжаешь из Берлингтона, даже если для спокойных размышлений не найти лучшего места, чем коктейль-бар.
У столика остановился официант:
— Закажете еще, сэр?
О’Доннелл покачал головой:
— Нет, спасибо.
Расплатившись, оставив чаевые и расписавшись под счетом, О’Доннелл встал.
В половине восьмого он вышел из отеля. Времени было достаточно, и он прошел пешком по Пятьдесят пятой улице до Пятой авеню. Там остановил такси и поехал на окраину Нью-Йорка по адресу, который дала ему Дениз.
Водитель остановил машину на Восемьдесят шестой, возле серого каменного дома. О’Доннелл расплатился с шофером и вошел в подъезд.
В холле подъезда с ним уважительно поздоровался одетый в форму консьерж. Он спросил его имя, сверился со списком посетителей и сказал:
— Миссис Кванц оставила записку, в которой просит вас подняться наверх, сэр. — Он жестом указал на лифт.
Лифтер, одетый в такую же форму, что и консьерж, объяснил:
— Это пентхаус, двадцатый этаж. Я сейчас сообщу миссис Кванц, что вы уже в лифте.
Двери лифта бесшумно открылись на двадцатом этаже, и О’Доннелл ступил в устланный толстым ковром обширный холл. На одной из стен, занимая ее почти целиком, висел гобелен с изображением охотничьей сцены. С противоположной стороны открылись двойные двери резного дуба, и из них вышел слуга.
— Добрый вечер, сэр. Миссис Кванц попросила меня провести вас в гостиную. Она сейчас к вам выйдет.
Вслед за слугой О’Доннелл прошел через второй холл и оказался в гостиной, которая была больше, чем все его жилье в Берлингтоне. Гостиная была выдержана в бежевых, коричневых и коралловых тонах. С обеих сторон диванов стояли красно-коричневые столики. Их глубокий, насыщенный темный цвет очень удачно контрастировал со светлыми бежевыми стенами. Гостиная открывалась на выложенную плитами террасу, освещенную последними лучами заходящего солнца.
— Не хотите что-нибудь выпить, сэр? — спросил слуга.
— Нет, спасибо, — ответил О’Доннелл. — Я подожду миссис Кванц.
— Тебе не придется ждать, — послышалось из холла. Это была Дениз. Она шла к О’Доннеллу, протягивая к нему руки. — Кент, дорогой, как я рада тебя видеть!
Мгновение он смотрел на нее, потом медленно произнес:
— Я тоже. — И искренне добавил: — До этого момента я даже не представлял насколько.
Дениз улыбнулась, приподнялась на цыпочки и легонько коснулась губами его щеки. О’Доннелл испытал неудержимое желание обнять ее, но сдержался.
Сейчас она была еще прекраснее, чем во время их предыдущей встречи в Берлингтоне. От лучистой улыбки у него кружилась голова и перехватывало дыхание. На Дениз было короткое, расклешенное внизу, открытое вечернее платье из черного шелка, украшенное иссиня-черными кружевами, оттенявшими белизну гладкой кожи. На поясе была красная роза.
Она отпустила одну его руку, а за вторую повела на террасу. Слуга шел впереди, неся серебряный поднос со стаканами и шейкером. Поставив поднос, он бесшумно вышел.
— Мартини уже смешан. — Дениз вопросительно посмотрела на О’Доннелла: — Или ты хочешь что-нибудь другое?
— Я очень люблю мартини.
Дениз налила напиток в стаканы. Подавая один из них О’Доннеллу, она тепло ему улыбнулась:
— Приветствую вас в Нью-Йорке от лица комитета одного.
О’Доннелл пригубил коктейль. Он был холодным и сухим.
— Передайте мою благодарность комитету, — шутливо сказал он.
На мгновение их взгляды встретились. Потом Дениз взяла гостя за руку и повела к балюстраде, которой заканчивалась терраса.
— Как чувствует себя твой отец? — спросил О’Доннелл.
— Спасибо, хорошо. Он, конечно, твердолобый и упрямый консерватор, но здоровье у него отменное. Иногда мне кажется, что он переживет всех нас. — Помолчав, она сказала: — Я очень его люблю.
Они дошли до балюстрады и остановились. На город опустились сумерки, теплые мягкие сумерки позднего лета. Нью-Йорк зажигал огни. Внизу двигался неудержимый плотный поток машин, мерцавших фарами. Из ровного гула автомобилей резко выделялся вой автобусных дизелей. Слышались нетерпеливые гудки клаксонов. Впереди угадывался Центральный парк, отчетливо виднелись только дорожки, обозначенные фонарями. За парком улицы Уэст-Сайда стекали к Гудзону. Точечные огоньки судов связывали Нью-Йорк с берегами Нью-Джерси. Дальше, на самой окраине, виднелся мост Джорджа Вашингтона с высокими пролетами, ярко освещенными прожекторами — цепью ярких белых бусинок. По многорядному мосту двигался поток автомобилей, свет их фар сливался в светящиеся полосы, стремившиеся прочь от города. Люди едут домой, подумал О’Доннелл.
— Красивый вид, правда? — тихо сказала Дениз. — За этими огнями могут скрываться самые отвратительные вещи, но все равно восхищаешься красотой. Мне очень нравится вид Нью-Йорка, особенно по вечерам.
— Ты никогда не думала о том, чтобы вернуться? — спросил О’Доннелл. — Я имею в виду Берлингтон.
— Вернуться, чтобы жить?
— Да.
— Никто и никогда не может вернуться, — неторопливо ответила Дениз. — Это одна из немногих вещей, которые я твердо усвоила. Я не имею в виду именно Берлингтон, это касается и всего остального — времени, людей, мест. Ты можешь вернуться в какое-нибудь место, возобновить прерванное знакомство, но оно уже не будет прежним, так как за прошедшее время люди стали чужими. Мы не можем принадлежать прошлому, потому что ни один человек не стоит на месте, он постоянно меняется. — Она помолчала. — Мое место теперь здесь. Не думаю, что я когда-нибудь покину Нью-Йорк. Наверное, звучит очень нереалистично.
— Нисколько, — сказал он. — Ты говоришь очень мудрые вещи.
Она положила руку ему на плечо:
— Давай выпьем еще по коктейлю, а потом можешь угостить меня ужином.
Они отправились в «Мезонетт», небольшой, но очень уютный ночной клуб на Пятой авеню.
Когда они, потанцевав, вернулись за стол, Дениз спросила:
— Ты надолго в Нью-Йорк?
— Через три дня мне надо вернуться в Берлингтон, — ответил он.
Она наклонила голову:
— Отчего так скоро?
— Я же работаю, — улыбнулся О’Доннелл. — Мои пациенты надеются снова меня увидеть, да и в администрации клиники очень много дел.
— Думаю, мне будет тебя не хватать, — сказала Дениз.
Мгновение он раздумывал, потом повернулся к ней всем телом:
— Ты знаешь, что я ни разу не был женат?
— Да. — Она серьезно кивнула.
— Мне сорок два года, — сказал он, — к этому возрасту, если человек живет один, вырабатываются привычки и складывается образ жизни, который ему самому трудно изменить, а другому человеку так же трудно принять. — Он помолчал. — Я пытаюсь объяснить, почему со мной, возможно, будет трудно ужиться.
Дениз положила ладонь на руку О’Доннелла:
— Кент, дорогой, могу я спросить одну вещь? — Она едва заметно улыбнулась. — Это следует понимать как предложение руки и сердца?
О’Доннелл рассмеялся. Его охватило бесшабашное, веселое мальчишество.
— Теперь, когда ты это сказала, думаю, что следует понимать именно так.
Дениз ответила не сразу. Когда она наконец заговорила, О’Доннелл почувствовал, что она пытается выиграть время.
— Я польщена, но не слишком ли ты торопишься? Мы ведь едва знакомы.
— Я люблю тебя, Дениз, — просто сказал он.
Она испытующе посмотрела на него.
— Я тоже смогла бы тебя полюбить, — призналась она, потом добавила, медленно подбирая слова: — Сейчас все мое существо хочет сказать «да» и вцепиться в тебя обеими руками, мой дорогой. Но внутренний голос нашептывает мне: «Будь осторожна». Когда ошибешься хотя бы раз, становишься осмотрительной, чтобы не наступить на те же грабли.
— Да, — сказал он, — я хорошо тебя понимаю.
— Никогда не разделяла популярную идею о том, что можно избавиться от партнера и быстренько забыть о нем, как о выпитой желудочной таблетке. Это одна из причин того, что я до сих пор не оформила развод.
— Это будет трудно?
— На самом деле нет. Я могу развестись в Неваде или в каком-нибудь подобном месте. Но есть еще одно обстоятельство: ты живешь в Берлингтоне, а я — в Нью-Йорке.
— Ты говорила серьезно о невозможности возвращения в Берлингтон? — осторожно спросил он.
Она подумала, прежде чем ответить.
— Да, серьезно. Я никогда не смогу жить там. Не стоит притворяться, Кент. Я слишком хорошо себя знаю.
Официант принес кофе и разлил его по чашкам.
— Мне так хочется побыть с тобой наедине, — признался О’Доннелл.
— Почему бы нам не уйти? — тихо предложила Дениз.
О’Доннелл попросил счет, расплатился и помог Дениз одеться. Швейцар вызвал такси, и О’Доннелл назвал шоферу адрес Дениз.
Когда они уселись на заднем сиденье, Дениз сказала:
— Мой вопрос может показаться тебе эгоистичным, но ты никогда не думал о практике в Нью-Йорке?
— Да. Как раз об этом я сейчас и думаю.
Он продолжал думать об этом, когда они поднимались в лифте на двадцатый этаж. «Почему бы не переехать в Нью-Йорк? — спрашивал он себя. Здесь превосходные клиники, Нью-Йорк — город медиков. Устроиться будет нетрудно. Сравнительно легко будет начать и частную практику. У меня отличный послужной список, в Нью-Йорке есть друзья, которые дадут необходимые рекомендации. Что удерживает меня в Берлингтоне? Неужели я должен прожить там всю жизнь? Не настало ли время поменять обстановку? Незаменимых людей нет, и я не женат на клинике Трех Графств. По некоторым вещам я стану скучать, мне будет не хватать строительства и созидания, людей, с которыми я сработался. Да, я многого достиг в Берлингтоне, никто не посмеет этого отрицать, но Нью-Йорк — это Дениз. Разве она не стоит всего этого?»
На двадцатом этаже Дениз сама открыла дверь квартиры ключом. Слуги в холле не было.
Они одновременно, не сговариваясь, пошли на террасу.
— Кент, не хочешь выпить? — спросила Дениз.
— Может быть, потом? — сказал он и потянулся к ней. Она приникла к нему, и губы их встретились. О’Доннелл обнял ее, ощутив, какое податливое у нее тело. Но вскоре она мягко отстранилась:
— Кент, мне надо о многом подумать. — В ее тоне сквозила озабоченность.
— И что же это за вещи? — недоверчиво спросил он.
— Ты очень многого обо мне не знаешь, — ответила Дениз. — Во-первых, я страшная собственница. Тебе это известно?
— Не сказал бы, что меня это сильно пугает, — ответил он.
— Если мы поженимся, ты будешь нужен мне весь, весь целиком. Я ничего не смогу с собой поделать. Я не смогу делить тебя ни с кем, даже с клиникой.
Он рассмеялся:
— Думается, что мы сможем найти компромисс. Другие же его находят.
Она повернулась к нему спиной.
— Когда ты так говоришь, я тебе почти верю. — Она помолчала. — Скоро ты снова приедешь в Нью-Йорк?
— Да.
— Как скоро?
— Как только ты меня позовешь, — ответил он.
Она не раздумывая подошла к нему, и они снова поцеловались. Но тут в гостиной раздался звук открывающейся двери и загорелся свет. Дениз отстранилась от О’Доннелла, а еще через мгновение на террасе появилась маленькая фигурка в ночной пижаме.
— Мне показалось, что здесь кто-то разговаривает.
— Я думала, ты уже давно спишь, — сказала Дениз. — Познакомься, это мистер О’Доннелл. — Потом она обратилась к О’Доннеллу: — Это моя дочь Филиппа. — И с чувством добавила: — Половина моих невозможных двойняшек.
Девочка посмотрела на О’Доннелла с нескрываемым любопытством.
— Привет, — сказала она. — Я много слышала о вас.
О’Доннелл вспомнил, как Дениз говорила, что ее детям по семнадцать лет. Девочка не выглядела на свой возраст, она еще не сформировалась, но двигалась с неподражаемой грацией, а осанкой очень напоминала мать.
— Привет, Филиппа. Прости, что мы тебя потревожили.
— Я не спала, читала. — Девочка посмотрела на книгу, которую держала в руке: — Это Геррик. Вы его читали?
— Едва ли, — ответил О’Доннелл. — На медицинском факультете остается мало времени на поэзию, а потом у меня так и не дошли до нее руки.
Филиппа раскрыла книгу:
— Я нашла здесь одно место. Оно написано словно для тебя, мама.
Она начала читать, с чувством выговаривая слова, модулируя интонации, но при этом без всякого напряжения:
- Нет, право, лучше ранних лет:
- Жар крови, сердца младость.
- С годами меркнет жизни цвет,
- И время гасит радость.
- Так торопись, пока юна,
- В объятия супруга:
- Навек пройдет твоя весна,
- Придут тоска и вьюга.
— Я уловила твою мысль, — улыбнулась Дениз и повернулась к О’Доннеллу:
— Могу сказать тебе, Кент, что дети все время уговаривают меня снова выйти замуж.
— Мы просто думаем, что так для тебя будет лучше, — вставила Филиппа и закрыла книгу.
— Они говорят, что делают это из сугубо практических соображений, — продолжала Дениз. — На самом деле они оба возмутительно сентиментальны. — Она посмотрела на дочь: — Филиппа, что, если я выйду замуж за доктора О’Доннелла?
— Он сделал тебе предложение? — В Филиппе живо проснулся интерес. Не дожидаясь ответа, она воскликнула: — Конечно же, выходи!
— Это зависит от многих вещей, моя дорогая, — сказала Дениз. — Остается сущий пустяк — оформить развод.
— Ах это! Папа очень неразумно относится к этому вопросу. Но зачем вам ждать? — Она посмотрела на О’Доннелла: — Почему бы не начать жить вместе? Тогда все доказательства будут налицо и маме не придется ехать в это ужасное Рено.
— Бывают моменты, когда я начинаю сомневаться в полезности прогрессивного образования. Надеюсь, это все? — Она подошла к Филиппе: — Доброй ночи, дорогая.
— О, мама! — сказала девочка. — Иногда ты бываешь такой допотопной.
— Доброй ночи, дорогая, — твердо повторила Дениз.
Филиппа обратилась к О’Доннеллу:
— Кажется, мне придется уйти.
— Мне было очень приятно познакомиться с тобой, Филиппа, — сказал он.
Девочка подошла к нему:
— Если вы станете моим отчимом, то я, наверное, могу вас поцеловать.
— Думаю, что в любом случае стоит попробовать.
Он наклонился к Филиппе, она поцеловала его в губы, отступила на шаг и озорно улыбнулась:
— Вы очень интересный человек. — И обратилась к матери: — Мама, не вздумай его упустить.
— Филиппа! — В голосе Дениз зазвенела сталь.
Девочка засмеялась и поцеловала мать. Махнув на прощание рукой, она взяла книгу со стола и вышла.
О’Доннелл, опершись спиной о стену террасы, заразительно хохотал. В этот момент холостяцкая жизнь в Берлингтоне казалась ему пустой и скучной, а перспектива совместной жизни с Дениз в Нью-Йорке становилась привлекательнее с каждой секундой.
Глава 18
Операция началась ровно в восемь тридцать утра. С первого дня работы в клинике Трех Графств Кент О’Доннелл настоял на неукоснительной пунктуальности в операционной, и хирурги подчинились этому требованию.
Операция была несложной, и Люси не ждала никаких неприятных сюрпризов. Она планировала ампутировать конечность высоко, на границе верхней и средней трети бедра. Сначала она думала выполнить экзартикуляцию бедра, сочтя, что это будет лучшей профилактикой возможного распространения опухоли, но потом отказалась от этой мысли. Отделение конечности на уровне сустава создаст невероятные трудности при дальнейшем протезировании. Поэтому Люси пошла на компромисс, решив сделать высокую ампутацию, но сохранить часть бедренной кости.
Люси рассчитала также, как она выкроит лоскуты тканей, чтобы наилучшим образом сформировать культю под протез. Она сделала это вчера вечером, прикинув в уме, где будет делать разрезы, когда пришла в палату к Вивьен якобы для обычного осмотра.
Это происходило уже после того, как Люси сообщила Вивьен страшную новость — это был печальный и напряженный разговор, во время которого девушка сначала сосредоточенно, с сухими глазами слушала хирурга, но потом не выдержала и, рыдая, прильнула к Люси, осознав, что последняя надежда окончательно рухнула. Люси, годами опыта приученная трезво и беспристрастно относиться к подобным вещам, была необычно тронута этим проявлением глубокого горя.
Беседы с родителями, а потом с пришедшим к ней Майком Седдонсом были не столь душераздирающими, но тоже дались Люси с большим трудом. Она давно поняла, что никогда не сможет полностью отделаться от чувства сострадания, и даже призналась себе, что ее внешняя отчужденность — это всего лишь поза, хотя и необходимая. Однако здесь, в операционной, отчужденность не была позой; во время операции, чтобы не навредить, хирург должен отключить все личные чувства и с холодной головой выполнять необходимые манипуляции.
Анестезиолог, стоявший у изголовья операционного стола, разрешил делать разрез. Интерн, ассистировавший Люси, поднял ногу так, чтобы от конечности оттекла венозная кровь. Люси надела на верхнюю часть бедра пневматическую манжету, но пока не стала ее раздувать.
Не дожидаясь команды, операционная сестра протянула Люси ножницы, которыми та срезала бинты, покрывавшие выбритую и обработанную гексахлорофеном конечность. Бинты упали на пол. Операционная санитарка подобрала их и бросила в мусорный бак.
Люси посмотрела на часы. Интерн держал ногу почти вертикально уже пять минут. Кожа конечности заметно побледнела. Интерн сменил руку, и Люси спросила:
— Устал держать?
Интерн улыбнулся под маской:
— Не хотел бы я держать ногу час.
Анестезиолог подошел к пневматической манжете и вопросительно взглянул на Люси.
Она кивнула:
— Начинайте.
Анестезиолог принялся накачивать воздух в манжету, чтобы остановить кровообращение в конечности. Когда он закончил, интерн опустил ногу на операционный стол. Вместе с операционной сестрой ассистент покрыл Вивьен стерильной зеленой простыней. Теперь было видно только операционное поле, на котором предстояло работать хирургам. Люси закончила последние приготовления, наметив зеленкой контуры будущих разрезов.
Сегодня в операционной были и учащиеся — двое студентов-медиков из университета, и Люси жестом попросила их подойти ближе к столу. Операционная сестра подала Люси нож, и та провела его кончиком по линии разреза. Делая это, она одновременно заговорила со студентами:
— Как вы видите, я сначала намечаю царапинами линии, по которым буду выкраивать необходимые лоскуты тканей. То есть я создаю нужные мне ориентиры. — Люси сделала первый разрез, обнажив расположенную непосредственно под кожей фасцию — тонкую оболочку из соединительной ткани. — Очень важно, чтобы передний лоскут был длиннее заднего. Тогда линия шва пройдет ближе к задней поверхности бедра и послеоперационный рубец будет располагаться не на культе. Если мы этого не сделаем, а наложим шов посередине, то больной будет испытывать сильную боль при опоре на культю.
Теперь ткани были вскрыты на довольно большую глубину, и границы лоскутов обозначились кровью, выступившей из разрезов. Лоскуты выглядели как полы рубашки — одна пола длинная, другая — короткая. Потом их края будут аккуратно подогнаны и сшиты.
Взяв скальпель, Люси принялась короткими быстрыми движениями отделять лоскуты от красной массы подлежащих тканей.
— Крючок!
Операционная сестра подала инструмент, и Люси, захватив свободно лежавший лоскут, оттянула его кверху и зафиксировала. Она жестом предложила интерну держать крючок, а сама принялась рассекать верхние слои четырехглавой мышцы бедра.
— Сейчас мы обнажим артерии. Вот они. Сначала займемся бедренной артерией.
Когда Люси выделила сосуд, студенты подошли ближе, чтобы лучше видеть рану. Люси снова заговорила, поясняя свои действия:
— Мы попытаемся выделить сосуд как можно выше, потом оттянем его книзу и перевяжем. Оттянем мы его для того, чтобы артерия потом сократилась и оказалась выше культи. — Игла, поданная сестрой, стремительно заплясала в руках Люси. Она дважды перевязала артерию, чтобы с гарантией избежать возможного смертельного кровотечения. Затем Люси взяла ножницы и пересекла артерию, питающую нижнюю конечность. Был сделан первый необратимый шаг к ампутации.
То же самое Люси быстро сделала с другими артериями и венами.
Рассекая мышцы, Люси наконец обнажила идущий вниз толстый нервный ствол. Тело Вивьен дернулось, когда затянутая в перчатку рука Люси прошлась по нерву. Все посмотрели на анестезиолога, но тот ободряюще сказал:
— С больной все в порядке. — С этими словами он коснулся рукой щеки Вивьен. Лицо девушки было бледным, но дышала она глубоко и ровно. Невидящие глаза были широко открыты и наполнены подсознательно пролитыми слезами.
— С нервом мы сделаем то же самое, что делали с артериями и венами. Мы оттянем его книзу, перевяжем и пересечем. Потом он сократится и уйдет вверх. — Люси говорила почти машинально, за словами следовали действия. Сказывалась многолетняя привычка к преподаванию. Она продолжила: — Среди хирургов до сих пор идет оживленная дискуссия относительно того, как обрабатывать концы пересеченных во время ампутации нервов. Цель — предотвратить возникновение болей в культе. — Она ловко перевязала нерв и кивнула интерну, который ножницами срезал свободные концы ниток. — Было предложено несколько методов — алкоголизация, электроприжигание. Мы сегодня воспользуемся самым простым и наиболее широко применяющимся методом.
Люси взглянула на часы. Девять пятнадцать. Прошло сорок пять минут с начала операции. Она посмотрела на анестезиолога:
— Все нормально?
Анестезиолог кивнул:
— Все идет как нельзя лучше, Люси. Она по-настоящему здоровая девочка. Ты, случайно, не перепутала больных? — игриво спросил он.
— Нет, не перепутала.
Люси не любила подобных шуток в операционной, хотя и знала хирургов, которые острили во время операции — от разреза до наложения швов. Возможно, этими остротами хирурги прикрывали свои чувства. Как бы то ни было, она решила сменить тему. Начав рассекать мышцы задней части бедра, она спросила анестезиолога:
— Как твоя семья? — Люси замолчала, устанавливая на место второй крючок, чтобы зафиксировать задний лоскут.
— Все прекрасно. На следующей неделе переезжаем в новый дом.
— Правда? И где он находится? — Она обратилась к интерну: — Немного повыше, пожалуйста. Старайся держать его так, чтобы он мне не мешал.
— В Сомерсет-Хайтсе. Это новый квартал на севере.
Почти все мышцы задней части бедра были пересечены.
— Да, я о нем слышала, — сказала анестезиологу Люси. — Думаю, твоя жена довольна.
Теперь на дне глубокой разверстой красной раны была видна кость.
— Она на седьмом небе, — ответил анестезиолог. — Покупает коврики, занавески и прочие штучки. Есть только одна проблема.
Люси начала руками отделять от бедренной кости мягкие ткани.
— Вы видите, что я освобождаю кость как можно выше по протяжению. Тогда мы сможем отпилить ее высоко и прикрыть мышечной тканью, — объяснила она студентам.
Интерн с трудом удерживал лоскуты двумя крючками. Люси помогла ему, переставив инструменты.
— В следующий раз я захвачу с собой третью руку, — проворчал он.
— Пилу, пожалуйста! — попросила Люси.
Операционная сестра была уже наготове и вложила рукоятку пилы в ее протянутую ладонь.
— Какая же это проблема? — спросила Люси у анестезиолога.
Расположив пилу как можно выше, Люси начала перепиливать кость короткими ровными движениями. Раздался скрежещущий звук зубьев, вгрызающихся в кость.
— За все это приходится платить, — ответил анестезиолог.
Люси пошутила:
— Придется нам планировать больше операций, чтобы занять тебя работой.
Она пропилила кость до половины. Ткань оказалась очень твердой, но это естественно — молодые кости крепкие. Внезапно ее поразила одна мысль: «Здесь, в операционной, происходит трагедия, а мы непринужденно болтаем и даже шутим. Через пару секунд нога будет окончательно отделена от туловища, и молоденькая девушка, почти ребенок, никогда больше не сможет бегать, танцевать, плавать, ездить верхом. Она не сможет радостно отдаваться любимому человеку. Со временем она, конечно, научится делать многое — самостоятельно или с помощью механических приспособлений, но ничто не станет прежним, не будет больше беззаботности, свободы и радости, переполняющих юное тело. В этом суть трагедии: она случилась слишком рано.
Люси остановилась — она почувствовала, что кость почти отпилена. И вдруг раздался тихий хруст, за которым последовал сильный треск. Кость не выдержала тяжести конечности и сломалась, а нога упала на стол. Впервые повысив голос, Люси крикнула:
— Держите ее, скорее!
Но было уже поздно. Интерн попытался перехватить ногу, но не смог, и она, соскользнув с операционного стола, грохнулась на пол.
— Оставь ее на месте! — крикнула Люси интерну, который машинально наклонился за конечностью, забыв о том, что он стерилен. Интерн смущенно выпрямился.
В операционную вошла операционная санитарка, подняла ногу с пола и упаковала ее в марлю и плотную бумагу.
— Подними культю от стола, — сказала Люси интерну, и он, встав с ней рядом, приподнял обрубок ноги.
Операционная сестра подала Люси напильник, и она, ощупав острые отломки, принялась их обтачивать. Обращаясь к студентам, она сказала:
— Нельзя оставлять острых торчащих концов кости — впоследствии они разрастутся и будут причинять пациенту сильную боль. — Потом, не поднимая головы, обратилась к анестезиологу: — Как у нас со временем!
— Прошло семьдесят минут, — ответил он.
Люси вернула напильник операционной сестре.
— Все в порядке, теперь будем ушивать рану.
Завершение операции было уже близко, и Люси с вожделением подумала о чашке кофе, которая ждет ее в ординаторской хирургического отделения.
Майк Седдонс в буквальном смысле слова потел все то время, пока шла операция. Вместе с Лоубартонами — родители Вивьен остались в Берлингтоне и собирались провести с дочерью послеоперационный период — он находился в небольшой комнатке, в которой родственники больных ждали, когда к ним выйдет оперировавший хирург. Рано утром, до того как клиника начала просыпаться, Майк встретил чету Лоубартонов у главного входа и провел их в палату Вивьен. Говорить было, собственно, не о чем. К тому же Вивьен была очень сонлива после успокаивающей инъекции и едва ли сознавала, кто к ней пришел. Через несколько минут ее на каталке увезли в операционную.
Здесь, в неуютной, скудно обставленной комнате с неудобными стульями и небрежно лакированными столами, они были втроем. Все молчали. Высокий, массивный Генри Лоубартон стоял у окна и безучастно смотрел на улицу. У него были редкие, седые, со стальным оттенком, волосы, жесткое, морщинистое, обветренное за годы ежедневного пребывания на открытом воздухе лицо. Майк Седдонс уже знал, что сделает отец Вивьен дальше. Сейчас он отойдет от окна и вернется к стулу. Потом, посидев, снова встанет и подойдет к окну. Это продолжалось уже около часа. Седдонс страшно нервничал и желал только одного — чтобы Лоубартон перестал действовать как заведенный. Пусть бы начал быстрее ходить или изменил интервалы между перемещениями.