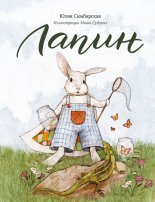Сновидец. Призови сокола Стивотер Мэгги
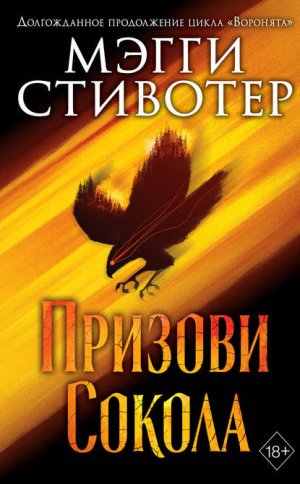
Парцифаль посмотрел в окно на закрытую дверь кондитерской. Он был очень, очень спокоен.
– Она умерла, – сказал он сдержанно и бесстрастно. – Я убил их всех, когда в первый раз увидел конец света.
32
Большинство людей притворялись, что не замечают женщину на автозаправке. Эта заправка, примерно в получасе езды к западу от Вашингтона, была межрегиональным оазисом, которые часто встречаются на востоке – там всегда людно из-за фирменных многообещающих сэндвичей, которые неплохо пахнут, и туалетов, где не прилипаешь к унитазу. Женщина была миловидная, светлокожая, с длинными рыжими волосами, аккуратная, в красивом свободном плаще поверх красивого цветастого платья, однако выглядела она так, словно заблудилась – не в пространстве, а во времени – и поэтому никто не мог поймать ее взгляд.
Шона Уэллс наблюдала за женщиной последние двадцать минут. Она ждала, когда ее муж, Даррен, перестанет дуться и вернется в машину, стоявшую рядом, чтобы ехать домой, в Гейтерсберг. Возможно, он ждал, когда ОНА перестанет дуться. Шона не знала наверняка и, во всяком случае, не собиралась бросать машину, чтобы сходить за ним. Два задних сиденья были заняты – на тот случай, если Даррен об этом позабыл – и она не собиралась отстегивать детей только ради того, чтобы положить конец ссоре.
Вместо этого она наблюдала за женщиной. Поначалу Шона подумала, что та просит денег, но чем дольше она наблюдала, тем сильнее уверялась, что незнакомка пытается поймать машину. «Кто в наши дни ездит стопом?» – подумала Шона. Разве не твердят каждой женщине, что садиться в машину к незнакомцу опасно? Спустя некоторое время, впрочем, Шона поняла, что вопрос обрел другую форму – «Кто посадит к себе попутчика?» – и одновременно до нее дошло, что она готова спросить у незнакомки, в какую сторону та направляется.
Даррен и Шона поссорились, выясняя, не эгоизм ли со стороны Шоны сердиться из-за того, что он купил себе новую машину. Она хотела новую веранду для вечеринок. Он хотел новое авто, чтобы ездить на работу. Она не понимала, где тут эгоизм. Он сказал, что в том-то и проблема.
Шона решила, что если женщина попросит ее подвезти, до того как вернется Даррен, она скажет «да».
Впрочем, минуты ползли, и казалось все более вероятным, что Даррен скоро сдастся; тогда Шона решила действовать. Она включила мотор. Дети забормотали. Тронувшись с места, она увидела, что Даррен и незнакомка разом подняли головы. Он в замешательстве, а она – с чем-то вроде узнавания на лице.
Шона опустила стекло. В старой машине не все механизмы работали как надо, поэтому стекло остановилось на полпути, но этого хватило, чтобы спросить:
– Вас подвезти?
Вблизи женщина оказалась очень симпатичной, с зелеными, как бутылочное стекло, глазами, коралловым ртом и прозрачной кожей, усыпанной веснушками. Иногда, глядя на красивую женщину, другая женщина может почувствовать себя неловко, но с Шоной произошло обратное: она как будто заново осознала всё то, что считала в себе красивым.
– Мне надо в Вашингтон, – сказала женщина.
– Я как раз еду туда, – Шона бросила взгляд на Даррена, который в изумлении наблюдал за ней. – Залезайте.
Женщина улыбнулась, и Шона вспомнила еще больше черт, которые любила у себя. Например, глаза у нее всегда были веселыми, даже когда она не смеялась, и Даррен иногда говорил, что, глядя в них, тоже радуется. Он, в общем и целом, был не таким уж придурком. Жаль, что с новой машиной так вышло.
Женщина села в машину.
Шона на секунду удержала взгляд Даррена (тот сделал универсальный жест, обозначавший «какого черта ты творишь?»), прежде чем выехать с заправки.
– Я вам признательна, – сказала женщина.
– Да никаких проблем, – ответила Шона, как будто постоянно это проделывала.
Мобильник, лежавший на приборной панели, загудел: на него стремительно приходили соображения. «Что ты делаешь?» Снова гудение. «В машине дети».
– Как вас зовут?
– Лилиана.
Они выехали на шоссе. Старый фургон ехал небыстро, но в конце концов разогнался до предела. Шона считала себя осторожным водителем.
– Красивое имя, – сказала она.
У женщины не было никакого акцента, но то, как она произнесла «Лилиана», словно намекало, что она родилась там, где говорили с акцентом.
– Спасибо. А как зовут ваших детей?
Шона протянула руку и нажала кнопку на телефоне, чтобы выключить экран. Ей не хотелось, чтобы женщина прочла сообщения Даррена и смутилась.
– Дженсон и Тейлор. Мои ребятки.
– Благослови тебя бог, Дженсон, и тебя, Тейлор, – ласково произнесла женщина, и Шоне показалось, что она ПОЧУВСТВОВАЛА эти слова как настоящее благословение – словно Лилиана искренне полюбила ее детей, хотя лишь мельком взглянула на них.
Некоторое время они ехали молча. Шона в норме любила поболтать, но само присутствие этой женщины – странной женщины, путешествовавшей автостопом – было таким громким, что она не замечала отсутствия беседы. Автомобилей становилось все больше, количество полос увеличивалось. Вечернее солнце у них за спиной было ярко-золотым, небо впереди темнело от подступающих сумерек и сгрудившихся грозовых туч.
– А что у вас за дела тут, Лилиана?
– Кое-кого ищу, – ответила женщина, глядя в окно.
У нее были такие густые и длинные рыжие волосы, и Шона вспомнила вдруг, как выглядела сама, когда забеременела. Она не теряла волосы, когда носила детей, – шевелюра была потрясающая, пышная, фантастическая, яркая, а потом гормоны кончились, и после рождения Тейлора волосы снова начали выпадать. Шона не задумывалась об еще одном ребенке, но сейчас, в машине, эта идея посетила ее и показалась весьма притягательной. Ей так нравилась беременность, а Даррен обожал детей. Она чувствовала себя такой целеустремленной, когда вынашивала новую жизнь.
Шона спросила:
– А он в Вашингтоне?
Женщина покачала головой.
– Нет. Но, возможно, здесь я узнаю, как его найти. Надеюсь.
Когда некоторые люди говорят «надеюсь», они имеют в виду, что особой надежды нет. Но эта женщина произнесла: «Надеюсь» таким тоном, как будто надежда была святыней – или профессией.
«Чем занимаешься?»
«Надеюсь».
В зеркальце заднего вида Шона увидела профиль нагонявшего их нового пикапа Даррена – он застрял несколькими рядами дальше, но, тем не менее, был рядом. Она поняла, что больше не жалеет об этой покупке. Да, она предпочла бы веранду, но пикап свидетельствовал о том, что Даррен по-прежнему оставался легким на подъем, по-прежнему склонным к юношески импульсивным желаниям. Разве не за это она его любила?
Впереди зарокотал гром, слышный даже сквозь шум мотора. Между облаками сверкнула молния. Шона боялась грозы в детстве. Поначалу это был необоснованный страх, но однажды, когда она лежала в постели, молния ударила через окно в выключатель на стене спальни. Так Шона поняла, что в мире есть не знающее законов электричество; с тех пор даже небольшая тучка заставляла ее опрометью мчаться домой и прятаться в кладовке. Она уже давно избавилась от этого страха, но теперь, глядя на тучи, поняла, что боится точно так же, как раньше.
Как глупо, что они с Дарреном поссорились из-за такой ерунды. Они отлично ладили – и вполне могли завести еще одного ребенка.
Молния снова метнулась в небе, насытив атмосферу электричеством. Шона посмотрела в зеркальце заднего вида на пикап Даррена. Она хотела, чтобы он приблизился. Она хотела видеть лицо мужа.
Он был близко. Он догонял и ехал уже прямо за ними, жестом изображая телефон. Шона пожалела, что не помирилась с мужем, прежде чем уехать.
И тут из машины высосало звук.
Он превратился в ничто, в мертвый воздух, как будто у реальности повернули регулятор громкости. Минивэн, как призрак, катил вперед среди беззвучных машин.
Шона хотела сказать: «О господи!», но для этого требовался звук, а его не было.
А потом всё стало – звук. В минивэне вопила какофония всех существующих звуков, на всех громкостях сразу. Десятилетия звуков, наслоившиеся друг на друга.
Это было как цунами.
Шум оглушил сидевших в машине. Если кто-то и вопил, ничего нельзя было услышать на фоне остального. Лобовое стекло разлетелось, окна тоже, откуда-то брызнула кровь. Минивэн внезапно перестал двигаться вперед, и пикап врезался в него сзади. Вой в минивэне поглотил и треск от столкновения. Обе машины вращались, вращались, вращались, в них врезались снова и снова, а звук не умолкал.
Потом все машины застыли без движения на крайней правой полосе, и мир вернулся к нормальному течению.
Даррен навалился на руль пикапа. Из минивэна тек антифриз. Шона лежала, откинувшись на спинку сиденья – из глаз и из ушей у нее текла кровь, тело было измято. Салон минивэна как будто оказался эпицентром персонального землетрясения.
На заднем сиденье вопили Дженсон и Тейлор. Они не получили ни царапины, хотя сиденье утратило форму, а детские кресла были сдавлены и поломаны.
Девочка-подросток выбралась с пассажирского сиденья минивэна. Как и дети, она не пострадала. У нее были длинные рыжие волосы, кожа, сплошь покрытая веснушками, и глаза, зеленые как бутылочное стекло. Она тихонько плакала.
Она сидела на обочине и раскачивалась, прижав к зубам костяшки пальцев, пока не услышала звук приближающейся сирены. Тогда она встала и зашагала в сторону Вашингтона.
Начался дождь.
33
Уже совсем стемнело, когда Ронан приехал в Амбары. Подъездную дорожку – туннель листвы, ведущий к тайному заповеднику, – было еле видно, но даже при солнечном свете ее нашел бы не всякий, из-за недавно изобретенной системы безопасности. Ушло несколько недель, чтобы довести этот сон до совершенства, и, пусть даже Ронан обычно устраивал в мастерской бардак, он тщательно прибрался после того, как закончил этот конкретный проект. Он уничтожил все черновики, не желая случайно на них наткнуться. Эта штука должна была работать на эмоциях реального мира – таких вещей Ронан, как правило, избегал. Химичить со свободной волей казалось ему отчетливо некатоличным – скользкий путь, от которого обычно предостерегают. Но он хотел, чтобы Амбары оставались в безопасности, а все остальные идеи, которые приходили ему в голову, основывались на причинении физического вреда. Причинить незваным гостям вред значило разоблачить себя, а убив чужака, пришлось бы прятать тело, поэтому Ронан остановился на выносе мозга.
Сонная система безопасности приводила пришельца в замешательство, заставляла грустить и сбиваться с толку, опутывая ужасной правдой его собственной биографии – и ничем более. Она не то чтобы заслоняла собой подъездную аллею, но, попавшись, человек просто переставал ориентироваться в настоящем и не замечал проход между деревьями. Установить ее было очень нелегко; у Ронана ушел почти целый день, чтобы растянуть защитную полосу на несколько метров поперек дороги. Каждые пять минут ему приходилось останавливаться и ждать, обхватив голову руками, пока не проходили страх и раскаяние.
В ту ночь, даже прекрасно зная, что за чертой находится его родной дом, в котором он провел большую часть жизни, Ронан, тем не менее, был вынужден сделать себе строгое внушение.
– Просто не останавливайся, – велел он.
И въехал на дорожку. Сомнения и неприятные воспоминания охватили его, а затем…
«БМВ» проскочил и оказался на другой стороне. Там и сям свет фар выхватывал из тьмы неподвижную корову. Далеко за холмистыми полями, в зарослях, мигали сонные светлячки.
Потом фары озарили старый белый дом и блестящие стены многочисленных хозяйственных построек, похожих на молчаливых слуг. Ронан вернулся.
Несколько долгих минут он сидел в машине на площадке перед домом, прислушиваясь к ночным звукам Амбаров. Сверчки, сонные ночные птицы, ветер с гор, слегка покачивающий машину. Амбары были совершенно такими же, как он их оставил; изменился только человек, который в них жил: Ронан.
Он отправил Адаму сообщение. «Не спишь?»
Адам ответил немедленно: «Нет».
Ронан с облегчением позвонил ему.
– Брайд спас мне жизнь.
Он сомневался, что расскажет Адаму всё. Сначала он не хотел звонить, потому что Адам был на занятиях, потом не хотел звонить, потому что Адам, возможно, играл в карты с Плаксивым клубом. После инцидента в общежитии мысль о том, что Адам скажет остальным: «Погодите минутку, это Ронан», прежде чем ответить на звонок, была нестерпимой. Кроме того, Ронан не знал, как говорить о том, чего он сам не понимал. Но, начав пересказывать события минувшего дня, он уже не смог остановиться, не только потому что ему нужно было это озвучить, но и потому что нужно было сказать об этом Адаму.
Адам молча выслушал Ронана, а потом долго молчал. В конце концов он произнес:
– Я хочу знать, что он будет с этого иметь. С того, что спас тебя. Они все, точнее. Я хочу знать, почему они тебя увезли.
– С какой стати им что-то с этого иметь?
– А как иначе? – спросил Адам. – Такова жизнь.
– Ты тоже меня спас.
Система безопасности иногда воскрешала и это воспоминание. Не счастливый финал, а предшествующие ему ощущения: Ронан, который тонул в кислотном озере и тянулся одной рукой к Опал, своему маленькому психопомпу, не в силах спасти ни себя, ни ее. Адам и его исключительная, редко используемая способность, к общему удивлению, пришли ему на помощь.
– Это другое.
– Почему?
Адам с легким раздражением ответил:
– Я спас тебе жизнь, потому что люблю тебя, потому что испугался и не знал, что еще сделать. Ситуация с Брайдом, кажется, иная.
Это утверждение одновременно понравилось Ронану и рассердило его. Первую часть подсознание отложило про запас, на черный день; вторую часть оно решило выкинуть, поскольку усмотрело в ней что-то пессимистичное.
– Большинство людей не похоже на тебя, Ронан, – продолжал Адам. – Они боятся рисковать жизнью непонятно зачем. Всегда есть элемент… как это называется? Самосохранения. Выживания. Не делать ничего рискованного без веской причины, потому что тело хрупко.
– Но ты не знаешь, пришлось ли ему рисковать, – сказал Ронан.
Ключом от машины он выковырял крошки от печенья из-под прикуривателя.
– Ты не знаешь, чем они рисковали, когда отбуксировали мою машину и меня вместе с ней.
– Есть такая вещь, как эмоциональный ресурс, – заметил Адам. – Если вкладываешься в чье-нибудь спасение, это бесследно не проходит, а у некоторых людей эмоциональный ресурс уже исчерпан. В любом случае, я понимаю, каких слов ты от меня ждешь.
– И каких слов я от тебя жду?
– Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что совершенно нормально поехать на поиски Брайда и тех других людей, вне зависимости от того, что думает Диклан.
Адам был прав. Как только Ронан услышал эти слова, он понял, что, действительно, именно их и хотел услышать.
Адам продолжал:
– Единственная проблема в том, что я согласен с Дикланом.
– Блин, только не начинай.
– …но по другой причине. Я не считаю, что тебе всю жизнь надо прятаться. Но сомневаюсь, что стоит выходить на охоту за тиграми, пока ты не обзавелся аналогичными полосками.
Ронан совершенно точно знал, что говорит раздраженно.
– Лирика. Да ты просто мудрец. Я это запишу на память, блин.
– Я хочу сказать: не торопись. Если подождешь каникул, я, пожалуй, подключусь.
Ронан не желал ждать. Ему казалось, что это всё похоже на свечку, которая может потухнуть, если прождать слишком долго.
– Я просто хочу знать, – наконец сказал Адам, слегка иным тоном, чем раньше, – что когда я приеду на каникулы, ты будешь здесь.
– Я буду здесь.
Куда он денется? Двусторонние крабы-убийцы об этом позаботились.
– Целый и невредимый.
– Целый и невредимый.
– Я тебя знаю, – предупредил Адам, но больше ничего не добавил – ни слова о том, что означало знать Ронана.
Они еще почти минуту сидели и молчали. Ронан слышал, как открываются и закрываются двери, кто-то переговаривается и смеется. Он не сомневался, что Адам слышит в трубке ночные звуки Амбаров.
– Мне надо пойти и закрасить ошметки крабов, – наконец произнес Адам. – Tamquam…
Прошло больше года с тех пор, как они учили латынь, но она оставалась их тайным языком. На латыни очень долго говорили сны Ронана, и это был один из немногих предметов, которыми Ронан увлекался в школе. Адам же страдал, если не мог достичь совершенства по какому-нибудь предмету, поэтому ему пришлось приналечь на латынь с той же страстью. Вполне возможно, что до тех пор никакие другие два человека не покидали Агленби с таким превосходным знанием латыни (и друг друга).
– …alter idem, – договорил Ронан.
Разговор закончился.
Ронан вылез из машины в гораздо лучшем настроении, чем сел в нее. Потыкав Бензопилу, которая спала на перилах веранды, он отпер дверь, и оба вошли. Ронан растопил камин в гостиной и поставил банку супа на плиту, а сам тем временем вымылся и вычистил черноту из ушей и волос. Его наполняла энергия. Адам не сказал «да», но не сказал и «нет».
Он сказал лишь «не торопись».
Ронан уверил себя, что торопиться некуда.
Он мог посмотреть фотографии своей настоящей матери и сравнить их с той женщиной, которую видел днем. Это достаточно неспешный процесс. И безобидный. Он мог заняться этим, сидя у огня и поедая суп. Адам и Диклан остались бы довольны.
Он достал из шкафа в старой родительской спальне коробку со старыми фотографиями и вернулся вниз. Налив суп в кружку, Ронан уселся у огня в гостиной. Это была уютная комната с низким потолком и массивными балками, с зияющим в неровно оштукатуренной стене камином. Всё в ней как будто относилось к гораздо более давним временам, нежели та эпоха, когда был выстроен дом. Но казалось оно таким же естественным и живым, как Ронан. Старый друг, с которым вместе можно посмотреть фотографии.
У него было очень хорошее настроение.
– Печенька, – сказал Ронан Бензопиле.
Он протянул лакомство птице, сидевшей на застеленной покрывалом кушетке. Одним глазом Бензопила смотрела на вожделенную печеньку, а другим на огонь, которому не доверяла. Каждый раз, когда в камине трещало полено, она подозрительно вздрагивала.
– Печенька, – повторил Ронан и постучал Бензопилу по клюву, чтобы она обращала больше внимания на него и меньше – на камин.
– Крек, – отозвалась та.
Он погладил мелкие перышки возле клюва и позволил Бензопиле угощаться.
Сидя на полу, Ронан снял крышку с коробки. Внутри лежали старые фотографии, в альбомах и просто так. Мать, отец, Тетя и Дядя (этот снимок Ронан вынул, чтобы внимательнее изучить на досуге), братья в детстве, разные животные и музыкальные инструменты. Аврора выглядела именно так, как он помнил, – мягче, чем на портрете. И чем та женщина в белом седане. Ронан с радостью убедился, что память его не подвела, хотя это никак не объясняло существование той, другой женщины с лицом матери.
Он продолжал рыться, глубже, глубже, глубже, до самого дна коробки, пока внезапно не увидел уголок фотографии, лежавшей внизу. Ронан отпрянул. Фотографию почти не было видно, но уголок он узнал. То есть не совсем узнал. Скорее, вспомнил чувства, которые всегда испытывал, глядя на снимок. Даже не вытягивая его до конца, он мог сказать, что это Ниалл Линч в молодости, незадолго до отъезда из Белфаста. Ронан много, много лет не видел эту фотографию и почти не помнил подробностей, не считая всепоглощающего ощущения, что она ему не нравится. Она вселяла в маленького Ронана столь неприятное чувство, что он засунул ее в самый низ коробки, чтобы не натыкаться на нее каждый раз. Теперь он помнил только бурную отцовскую энергию (Ниалл был неистовым человеком, самым живым из всех, кого знал Ронан, самым бодрым) и юность. Восемнадцать лет. Двадцать.
Размышляя об этом теперь, он подумал, что именно молодость Ниалла стала причиной столь явной неприязни. Маленькому Ронану зрелище отца, у которого вся жизнь была впереди, казалось ретроспективно жутким. Как будто у Ниалла на фотографии оставалось еще много вариантов, и любое его решение могло привести к тому, что он не стал бы их отцом.
Но теперь Ронан достиг возраста Ниалла на фотографии, и их отец уже принял все возможные решения, и они привели к тому, что он погиб.
Ронан вытащил снимок и снова на него посмотрел.
На Ниалле была кожаная куртка с поднятым воротником. Белый свитер. Кожаные браслеты на запястьях – он перестал носить их, раньше чем родился Ронан, и странно было думать, что Ронан теперь тоже их носил, хотя и не помнил этой подробности. У молодого Ниалла были длинные вьющиеся волосы, почти до плеч. Энергичное и свирепое выражение лица. Молодой и такой живой, живой…
Ронану не было неприятно смотреть на отца. Даже наоборот. Он получил кое-что, чего не ожидал: ответ.
Вовсе не лицо Ронана смотрело на него из машины возле сгоревшего отеля. Это было лицо Ниалла.
34
Джордан много работала в музеях. Дополнительное образование. Гарантия занятости. Тест на адекват. По крайней мере два раза в неделю она присоединялась к местным студентам художественных факультетов, которые отправлялись в галереи, чтобы учиться, снимая копии. На несколько часов она сама становилась подделкой: Джордан выглядела точь-в-точь как другие молодые художники, работавшие в музеях, тогда как в реальности ничуть на них не походила.
В Вашингтоне был неплохой выбор в плане музеев. Розоватая Национальная портретная галерея. Застенчиво неуютный Ренвик. Хаотически цветной Музей африканского искусства. Художественный музей Двух Америк и Институт мексиканской культуры, с их прекрасной индейской керамикой. Прелестный парк Дамбартон-Оукс. Национальный музей женщин в искусстве, откуда Хеннесси однажды выдворили за скандал (так что теперь никто из них не мог туда сунуться). Кригер и Филиппс, Хилвуд и Хиршхорн. И так далее. Фаворитом Джордан был маленький холодный музей Фриера с его маленькой коллекцией, давным-давно собранной человеком, у которого на первом месте стояло сердце, а на втором разум. Джордан и Хеннесси условились: Джордан не работает в соседнем музее Сэклера, а Хеннесси – в музее Фриера.
Хоть что-то, по крайней мере, у них отличалось.
Но тем утром – поскольку она не желала выдавать подлинные черты своей натуры, – Джордан направилась в Национальную художественную галерею. Это было большое красивое здание с высоченными потолками, массивной лепниной и неяркими стенами, на фоне которых блистали позолоченные сокровища. Там всегда толпились студенты и школьники, делавшие наброски; в некоторых залах стояли тяжелые, большие мольберты для заезжих художников. Фальсификатор мог работать в самом центре музея, не боясь привлечь общее внимание.
Джордан взглянула на часы. Она слегка запоздала. Хеннесси утверждала, что опоздать на встречу значит продемонстрировать агрессию. Все равно, что залезть в чужой карман и вытащить бумажник. Прислониться к чужой машине и слить бензин, глядя хозяину в глаза. Ну или как ехать по Вашингтону в час пик. Хеннесси тогда ответила, что в своем несогласии они вполне согласны.
Джордан взглянула на человека в другом конце зала, изучавшего мраморную статую. Он стоял к ней спиной, и его серый костюм был непримечателен и анонимен, но, тем не менее, она не сомневалась, что узнала осанку и вьющиеся темные волосы. Сцена выглядела весьма художественно – между колонн лился свет, всё казалось коричневым, черным и белым. Получилась бы красивая картина, если бы она писала оригиналы.
– Я слышала, вы сын дьявола, – заявила она.
Диклан Линч не повернул головы при ее приближении, но она увидела, как на его губах появилась сдержанная улыбка. Он ответил:
– Это правда.
Хватило нескольких щелчков мышки, чтобы выяснить, что он – старший сын Ниалла Линча, создателя «Темной леди». Джордан не стремилась узнать о нем побольше. В общем, она просто желала знать, чего ожидать от этого добропорядочного свидания. На фотографиях, которые нашла Джордан – в интернет-архивах частной школы, на заднем плане политических новостей, на изящных снимках с открытия художественных выставок – он выглядел скучно и непримечательно. «Портрет темноволосого юноши». Ничто не напоминало ей о мимолетной привлекательности, которой Диклан обладал на Волшебном базаре; возможно, общая атмосфера той ночи придала ему обаяния. Это будет неприятная повинность, подумала она. Вполне приемлемая и переносимая, если в итоге им удастся залезть к нему в карман и выудить бумажник, но, тем не менее, рутина. Как ни странно, Джордан испытала облегчение. Так было лучше.
Она осторожно подошла к нему. Диклан оказался не таким скучным на вид, как подсказывали фотографии и память. Джордан уже забыла, что он красив. Странно. От него пахло чем-то ненавязчиво мужским, легким и незнакомым – скорее, ароматическим маслом, чем духами. Джордан полуосознанно припомнила всех незнакомцев, с которыми занималась любовью, – незнакомцев, которые имели приятный запах, никогда ей больше не встречавшийся, запах, который в ее памяти вечно принадлежал только им.
– Я немного почитала о тебе в Интернете после нашей последней встречи.
– Какое совпадение, – сказал Диклан, по-прежнему не сводя глаз со статуи, – я тоже. Если не ошибаюсь, ты выросла в Лондоне.
Что мог найти человек, который искал в Сети информацию о Джордан Хеннесси? Ее мать, героиню печальной истории, такой типичной, что она казалась, скорее, не трагедией, а вполне логичной последовательностью событий. Гениальная, но неуравновешенная художница, жизнь безвременно оборвалась, картины внезапно сделались очень дорогими. Хеннесси выросла с ней в Лондоне и говорила с лондонским акцентом – следовательно, он был у Джордан и прочих девочек.
– Я выросла везде. А ты, если не ошибаюсь, в детстве жил на западе.
– Я родился взрослым, – вежливо ответил он.
– Я читала про твоего отца. Очень печально.
– Я читал про твою мать. Аналогично.
Впрочем, трагедия Хеннесси не имела отношения к Джордан. Она сказала:
– Ну, всё лучше, чем убийство. Мама сама была виновата.
– Некоторые наверняка считают, – заметил Диклан, – что мой отец тоже был сам виноват. М-м… искусство и жестокость.
Он наконец повернулся и посмотрел на ее губы. Она как раз успела заметить это – и почувствовать сильный, неожиданный и приятный жар, – а потом Диклан сказал:
– Погуляем и побеседуем?
Хеннесси бы возненавидела его.
Но Хеннесси тут не было.
Они принялись бродить по музею. В этом утреннем блуждании по залам, где были только школьники, пенсионеры и местные, ощущались свобода и новизна. Для человека, который в норме не спит всю ночь, время до полудня течет иначе.
Они позволили себе застрять в паутине очереди на временную выставку Мане.
Диклан сказал:
– Я не думал, что ты позвонишь.
– Я тоже не думала, мистер Линч.
– Кстати, чуть не забыл, – он полез в карман и пояснил: – Я тебе кое-что принес.
Джордан стало неловко. Он вел себя как на настоящем свидании, а остальные девочки в эту самую минуту забирались к нему в дом.
– Не цветы, надеюсь?
Очередь продвинулась на несколько шагов.
– Дай руку, – сказал Диклан, когда они вновь остановились.
Она протянула руку. Он положил подарок ей на ладонь.
Почти против воли, Джордан была изумлена.
– Это действительно то, что тут написано?!
Он улыбнулся своей кроткой улыбкой.
На ладони у Джордан лежала маленькая скляночка, вроде тех, в каких держат нетривиальную косметику. Внутри была фиолетовая пыльца – так мало, что ее можно было рассмотреть, только наклонив склянку под определенным углом. Надписанный от руки ярлычок гласил: «Тирский пурпур». Легендарный пигмент, который почти невозможно достать. Его извлекали из морских моллюсков, например Purpura lapillus. Моллюскам явно недоставало мотивации; требовалось огромное количество этих тварей, чтобы получить хотя бы немножко тирского пурпура. Джордан не помнила точное число. Тысячи. Тысячи моллюсков.
Очень дорогой подарок.
– Я не могу…
– Не будь занудой, – перебил Диклан. – Ты не представляешь, как трудно было добыть его за такое короткое время.
Джордан не ожидала, что испытает по этому поводу столь противоречивые чувства. Сегодня всё, предположительно, было не всерьез. Средство для достижения цели. Ненастоящее свидание. Ничего такого, что поставило бы перед ней вопрос: «Нравится ли мне этот человек?»
Она скрыла все сомнения за широкой улыбкой и сунула пузырек в карман.
– Блин. Ладно. Рисуя, я буду произносить твое имя.
– Произнеси его теперь, – предложил Диклан и почти улыбнулся. Почти.
– Диклан, – сказала она и отвела глаза: Джордан почувствовала, что улыбается, и вовсе не той беглой улыбкой, которую обычно себе позволяла. «Блин», – подумала она.
– Джордан, – откликнулся он, пробуя ее имя на вкус, и она удивленно моргнула.
Но, разумеется, он должен был называть ее по имени. Он явился к ней не из мира подделок и взаимных претензий, мира, где она представлялась Хеннесси. Он поискал в Сети и нашел полное имя: Джордан Хеннесси.
В норме она поправляла собеседника. Говорила: нет, просто Хеннесси – потому что так сказала бы Хеннесси, а они все были ею.
Но Диклана она не поправила.
Выставка Мане была под завязку забита публикой, и на выходе Диклан и Джордан на минуту застряли в дверях. Их касались чужие пиджаки, чьи-то сумочки толкали в спину. Джордан и Диклана прижало друг к другу. На мгновение он посмотрел на нее, а она на него – и увидела яркий интерес в его глазах, и поняла, что он увидел то же самое. Потом они выбрались из зала, и к Джордан вновь вернулась самоуверенная манера, а Диклан надел маску скучного официального спокойствия.
Наконец они оказались в зале номер 70, перед «Улицей в Венеции» – картиной, копию которой она рисовала в присутствии стольких людей на Волшебном базаре.
Вокруг них, как хаотические шестеренки, двигались люди. Джордан провела столько времени в этом зале, копируя «Улицу в Венеции», что теперь все картины казались ей старыми друзьями. В конце концов она сказала:
– Когда я впервые пошла посмотреть на Сарджента в музее, я не знала, в каком зале искать. Он родился в Америке – значит, американский зал? Жил в Англии – английский зал? Если человек принадлежит двум мирам, теоретически его должно быть проще найти, но, честное слово, то же самое было при жизни Сарджента. Если принадлежишь более чем одному миру, в конце концов перестанешь принадлежать им всем.
Кто она была? Джордан. Хеннесси. Джордан Хеннесси. Обе и никто.
Перед тем как прийти сюда, она мало что рассчитывала отдать, но он подарил ей тирский пурпур. Казалось справедливым, что она, по крайней мере, в обмен должна предложить ему немного правды.
Диклан не отводил взгляда от картины Сарджента. Он задумчиво произнес:
– Когда Сарджент жил в Венеции, то часто останавливался в палаццо Барбаро… Говорят, очень красивое место. Владельцы приходились ему родней, если не ошибаюсь. Ты это знаешь? Не буду утомлять тебя, если знаешь.
– Продолжай.
– Они устраивали художественные выставки и принимали у себя самых известных американских эмигрантов своего времени. Уортон, Джеймс, Уистлер… голова кругом, когда представишь их всех под одной крышей. Но человек, которому принадлежал дом, – Дэниэл Сарджент Кертис, – не был художником. Просто семьянином. Судьей из Бостона. Несколько десятков лет он вел скучную, непримечательную жизнь, пока в один прекрасный день не дал другому судье по морде. Представь того, другого судью. Ему врезал человек, которого никто не запоминал в лицо.
Диклан смолк, как будто задумался, но Джордан поняла, что он сделал это и ради эффекта, позволяя ей впитать слова, которые он только что произнес, прежде чем преподнести новую порцию. Диклану в свое время явно рассказывали немало историй, и он запомнил, как это делается.
Он продолжал:
– Выйдя из тюрьмы, он перевез всю семью в Венецию, купил палаццо Барбаро и до конца жизни не делал буквально ничего другого – только жил и дышал искусством.
Он перевел взгляд на нее. Он был хорошим рассказчиком. Очевидно, ему нравилось, как играли слова, выпускаемые в воздух.
Джордан почувствовала, что они квиты. Ей хотелось спросить, когда же он даст по морде какому-нибудь судье, но вопрос такого рода предполагал изрядную близость, а она и так уже зашла слишком далеко для несерьезного свидания.
– Искусство и жестокость. Это правда?
– Я не такой наивный, как ты думаешь.
– Я не считаю тебя наивным, – ответила Джордан. – По-моему, ты знаешь, что делаешь. Почему у тебя только ботинки интересные?
– А почему ты рисуешь только то, что уже нарисовали другие?