Калейдоскоп. Расходные материалы Кузнецов Сергей
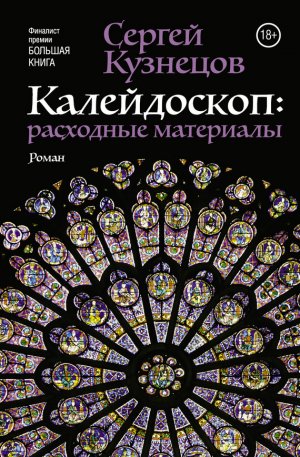
Вифредо не слышит его:
– И еще девчонка, совсем молодая. Такая худая, с короткой стрижкой. Может, хоть ее помнишь?
– Разве упомнишь всех девчонок, которые были молодые пять лет назад?
– Ее звали Анастасия, Асия. Русская.
Бармен замирает, словно задумавшись.
– Вроде была одна такая, но пару лет как уехала из Парижа. Не то в Китай, не то в Россию.
– В Россию?
– А может, и на Кубу. – Бармен забирает пустой графин и протягивает руку за мелочью. – Ты, парень, не задерживайся: комендантский час на носу.
– Комендантский час?
– Комендантский час, а как же. И не думай, что тебя не касается: в темноте сам черт не разберет, араб ты или метис. В участке потом будешь доказывать, хреном необрезанным трясти.
Вифредо выходит в сырой туман. Комендантский час, надо же. Похоже, он опять заблудился – на этот раз во времени. Какой год-то на дворе? 1942? 1944? Сейчас из тусклых сумерек появится немецкий патруль, шнель, шнель, хенде хох, добро пожаловать в одну компанию к родителям твоей Асии! Кирпичная стена, белесая мгла вместо воздуха, вспышки выстрелов… еще один иностранец пал смертью храбрых за la belle France. Вечная память героям! Спи спокойно, ты будешь отомщен: после Победы слабых на передок парижанок обреют налысо.
– Слушай, Серега, – ерничает Толстый, – а ты сам – не кубинец? Высокий, смуглый, с бородой.
– Я донской казак! – бурчит Сергей. – А что смуглый, так мы же с юга.
– А я-то думал, у нас здесь свой вива-фидель завелся!
– Иди ты!
Как они выбрались из «Восточного ресторана», никто уже не помнит. Слава Богу, не расколошматили легендарное зеркало в вестибюле – Сергей почти вошел в него, но Рыжий с Витькой удержали. Очкарик все это время втирал им про хатха-йогу, индуизм и Блаватскую, а Толстый пытался втянуть всех в спор о сравнительных достоинствах Фолкнера и Хемингуэя.
(перебивает)
Когда мне было лет двадцать, я прочитал «Праздник, который всегда с тобой». Был потрясен. Особо запомнилась мысль, что настоящий писатель должен голодать. Я хотел быть писателем и решил последовать совету Хемингуэя.
Несколько дней я съедал по два-три куска хлеба. Был очень собой горд. Заодно и деньги экономил.
Потом я пришел в гости к одному старому еврею, физику-ракетчику. Он жил вдвоем с женой в большой генеральской квартире. Был, кажется, единственный штатский на весь дом.
Жена накрыла на стол. Поставила салаты, селедку под шубой. Принесла запотевший графинчик.
Мы выпили с хозяином по рюмке. Он предложил закусить, и я сказал, что не ем. Голодаю, потому что хочу быть писателем, как Хемингуэй.
– Я тоже в молодости голодал, – кивнул старый физик. – Когда из Гомеля в Москву приехал. Допоздна в библиотеке сидел, а потом шел пешком через весь город в общежитие. Как сейчас помню: иду по трамвайным путям – и так есть хочется! Аж живот сводит.
Мне стало стыдно. Я тут же положил себе полную тарелку оливье и решил, что рецепт Хемингуэя не годится для России.
Если повезло родиться в сытое время – не надо выпендриваться.
Это было в середине восьмидесятых – так что потом мне довелось голодать безо всякого Хемингуэя.
Потом, конечно, никто не мог вспомнить, кому первому пришла в голову идея «сыграть в Париж». Во всяком случае, Сергей до конца жизни был уверен, что именно он втянул новых друзей в эту авантюру.
– Мир, – якобы объяснял он, – состоит из тонкой материи. Силой нашего сознания мы можем ее порвать – или трансформировать! Нас здесь пятеро, мы молоды и сильны, – тут Сергей пошатнулся: он занимался боксом и был ростом под два метра, но, видать, ленинградская водка оказалась слишком крепкой. – Да, молоды и сильны! У нас есть город – и есть карта. Если мы совместим их, то силой нашего сознания сможем на эту ночь превратить Питер – в Париж.
Виктор понял сразу, остальным пришлось объяснять еще раз. Сергей порывался достать карту, но Виктор удержал:
– Промокнет, ты чего! Да и зачем нам карта! Вот наш бульвар Монпарнас, другого нет и не будет, – и он махнул рукой в ту сторону, где Невский упирался в невидимое Адмиралтейство.
– Наш Монпарнас! – взревел Толстый. – А где же наша «Ротонда»?
– Наша «Ротонда» будет прямо здесь! – и Виктор хлюпнул ногой по луже. – На Малой Садовой!
– Надо войти и пропустить стаканчик!
– Нет, чуваки, «Ротонда» закрыта…
– На учет?
– Навсегда! Папаша Либион продал ее, разве не помните?
– Нет! На учет! Учтут наши пожелания – и откроют.
– Через пару лет.
– Через пару десятков лет!
Потом они двинулись дальше по бульвару Монпарнас в сторону «Клозери-де-Лила». Дождь прекратился, промозглая ночь дышала туманом и болотным духом.
– В Париже тоже есть болото! – провозгласил невидимый Витька, а Толстый захрюкал, настолько смешной показалась ему мысль о парижском болоте.
– Что Париж? – сказал Очкарик. – Там тепло, там солнце. Вечная весна. Что нам там делать? Мы же здесь выросли. Мы знаем такое, что парижанам и не снилось.
– Холод и зиму?
– Холод и зиму, да. И надежду на весну.
– На оттепель.
– На весну. На настоящую весну. Это закаляет характер: каждый год знать, что весна наступит, хотя надежды уже нет.
– Да, это тебе не камень в гору раз за разом…
– Да разве они могут догадаться, что значит…
– Чуваки, пришли!
Витька, знаток карты, тормознул на углу Невского и Литейного.
– Вот, значит, здесь у нас будет «Клозери-де-Лила», – разочарованно промычал Толстый.
– И тут будут собираться художники и поэты, – сказал Витька.
Сергей засмеялся. Ему вдруг стало легко, словно приоткрылась калитка в какое-то иное, счастливое будущее, будто в самом деле повеяло весной. Точно так же Вифредо и его друзья повторяли слово «Танжер», словно пароль, открывающий дверцу в грядущее десятилетие, где толпы длинноволосых любителей гашиша продолжат следом за ними паломничество на Восток.
А пока Сергей смеется – и смех растворяется во влажной питерской ночи, и Сергей понимает, что не ошибся, увидев в желтом свете фонаря зябкую женскую фигурку.
Здесь, на углу Невского и Литейного его в самом деле ждет Галя.
Париж – город-призрак. Любой город – фантом, удерживаемый на зыбкой грани реальности силой наших чувств. Страстью, страхом, любовью. Париж, Гавана, Буэнос-Айрес – любой город. Стоит отвернуться – и он соскальзывает в небытие. Хлюп – и нет больше Парижа, а на его месте какой-то футуристический Нью-Йорк или, напротив, ветер гонит радиоактивный пепел, здравствуй, Хиросима, моя любовь. Ни тебе Эйфелевой башни, ни Больших бульваров, ни Нотр-Дам.
Шесть лет назад Исидор и Раймон до хрипоты спорили: правы ли были художники, не давшие во время Парижской коммуны взорвать Собор Парижской Богоматери? Каждый человек должен построить свой собственный собор, объяснял в лечебнице один сумасшедший. А это значит – старые соборы не нужны. А как памятники культуры? Но не является ли превращение Собора в Музей проявлением реакционного по своей сути присвоения трансцендентного? А если это не музей архитектуры, а музей сопротивления? Побойся Бога, Раймон, какого сопротивления? Ты разве не знаешь? Пять лет назад Мишель Мур переоделся монахом-доминиканцем и провозгласил смерть Бога с амвона Нотр-Дам. И что? Толпа его чуть не разорвала, полиция с трудом отбила. А скажи, Раймон, хорошо ли прибегать к помощи полиции? Наверно, не очень, Исидор. Но если хочешь – можешь повторить и дать разорвать себя на части. И тогда это будет не Собор Парижской Богоматери, а Собор Св. Исидора-мученика. Очень смешно, Раймон.
Неслучайно Вифредо вспомнил этот разговор. Даже если забыть карту навсегда – что-то меняется в воздухе: похоже, Сена уже близко. Может, там, на одном из мостов, Асия по-прежнему ждет его?
Он узнал ее сразу: зябко ежится, притоптывает замерзшими ногами, брызги из лужи мелкими фонтанчиками, в свете фонаря – бескровные губы, побелевшие от холода.
– Галя, ты меня здесь ждешь?
– Нет, автобуса! Откуда же мне знать, что ты здесь появишься?
– Ну как же, нечаянная встреча – самое чаянное в жизни, а заранее договариваются о встречах лишь те, кто пишет на скучной линованной бумаге.
Она целует его в щеку – ты совсем не изменился! – влажный поцелуй, мокрая щека, вода, вода кругом, весь город пропитан влагой.
– Я провожу тебя?
– Конечно!
Приходит автобус… или нет, откуда автобус глухой ленинградской ночью? Где-то мелькает зеленый глазок такси, но кто будет его останавливать? И зачем?
Сергей и Галя идут вдоль Невского, оставив Витю и троих друзей позади (на Невском или все-таки на бульваре Монпарнас? Кто их знает, этой ночью все так зыбко), Галя держит его под руку, но не прижимается.
– Откуда ты здесь? Надолго?
– Всего на день. Завтра вечером возвращаюсь в Новочеркасск. Прямо с поминок и поеду.
– С поминок? – Она разворачивается, в свете фонаря на секунду видны удивленно приподнятые брови, желтая искорка лампы отражается в зрачках.
– Да, дедушка Саркис умер, Вардан телеграмму прислал.
– А твоя мама?..
– Не поехала, конечно. До сих пор не простила.
– Говорят, они живут теперь вместе. Вардан и эта… его пассия.
– А правда, что она совсем молодая?
– Ага. Говорят, на пару лет нас старше.
– Мне кажется, в этом есть что-то мерзкое, нет?
– Говорят, у Хемингуэя тоже молодая жена. И у Пикассо.
Если ты сегодня ответишь мне «да», думает Сергей, я никогда не променяю тебя…
Он неловко пытается обнять Галю, она выскальзывает из рук:
– Прости, слишком мокро.
Она сказала «прости»? Значит, если бы не дождь?..
– Я по тебе скучала, – говорит Галя, – жалко, ты только на один день.
– Позови – и я еще приеду.
Если это не признание в любви – то что?
– А как же занятия?
– Ну, зимой, после сессии…
– Ой, на каникулах меня здесь не будет. Уезжаю в Домбай.
– В Домбай? Зачем?
– Кататься на лыжах. Знаешь, какие там горы? Дух захватывает! В прошлом году мы с Валерой всю неделю буквально не уходили со склона.
С Валерой? Кто такой Валера?
– Ты не знаешь? – Галя оборачивается.
А разве он спросил вслух? Или она, как и раньше, читает его мысли?
– Я же вышла замуж. Еще на первом курсе. Думала, Витя тебе написал.
Что нужно сказать? Ах да, поздравляю.
– Я очень рад за тебя.
Прозвучало неубедительно. С другой стороны – зачем убеждать Галю? И в чем? Когда она сказала «замуж», Сергей вдруг понял, что приехал не на похороны: он любил дедушку Саркиса, но приехал, чтобы увидеть девочку, с которой два с лишним года назад попрощался на залитом дождем перроне. И вот сейчас, в слабом свете фонарей всматриваясь в Галино лицо, Сергей понимает: этой девочки больше нет, и нет больше города, в который он стремился.
Ленинград, Петербург – город-призрак, туманный фантом, удерживаемый на зыбкой грани реальности силой его чувств. Страстью, страхом, любовью. Стоит отвернуться – и он соскальзывает в небытие. Хлюп – и нет больше Питера, словно на него разом обрушились бомбы всех немецких самолетов, сбитых ленинградскими зенитками.
Как там, у Достоевского, про город на болоте, про одинокого медного всадника?
Да, думает Сергей, если бы мы жили в Париже, у нашей любви был бы шанс, – и тут Галя берет его за руку и говорит:
– Ты знаешь, в школе я была немножко влюблена в тебя.
Первая любовь всегда обречена. Нежная, как нераспустившийся цветок, она боится себя назвать и увядает в одиночестве. Двое подростков глядят друг на друга, и каждый видит только свое отражение. В это отражение они и влюбляются, и эта любовь существует лишь в тот краткий миг, когда они замирают перед неизбежным превращением в мужчин и женщин.
Волшебное зеркало разбито: там, где еще вчера было твое отражение, ты видишь другого человека, которого, конечно, уже невозможно полюбить.
Хлюп! Это всплеск воды, потом еще один. Вифредо выходит на набережную Монтебелло, собор Святого Исидора-мученика многоголовой горгульей вздымается на том берегу. Смуглый мужчина бежит навстречу, крича: «Убийцы, убийцы!» Вифредо прибавляет шагу, влажный воздух раздвигается перед ним, как занавес в кинотеатре, мост Сен-Мишель высится сюрреалистической декорацией, крики, ругань, плеск воды. Туман вбирает крики, в блеклом свете фонарей видно: кто-то висит, вцепившись в карниз моста, раскачиваясь на рекой, – Вифредо видит, как взлетает в воздух полицейская дубинка, короткий вскрик – хлюп! – ночь и туман смыкаются над упавшим в воду телом.
Вифредо замирает, потом поспешно поднимает руки – смотрите, герр офицер, я безоружен! – но никто не обращает на него внимания.
Снова всплеск, потом еще и еще. Ну да, они сбрасывают трупы в Сену! В своих блужданиях Вифредо отворил заветную дверь в стене, но вместо райского сада провалился в ад сорок второго года. Вот только на этот раз евреев не увозят в Дранси и Освенцим, их убивают прямо здесь, в центре города, священной жертвой у самых стен Нотр-Дам. На этот раз французы обошлись без немцев, все сделали сами. Свиньи. Убийцы.
Туман глушит выстрелы – или это всего лишь сирены полицейских труповозок, спешащих к месту бойни? Вифредо неподвижен, как соляной столб. Как жена Лота, последним взглядом он провожает любимый город, исчезающий в небытии. Будь проклята эта страна, шепчет он одними губами. Чтоб они все сдохли! Великая цивилизация? Al carajo!
И снова, одними губами: чтоб они все сдохли! Пусть еще поговорят про свой социализм! – и бегом с площади Карла Маркса, спотыкаясь, стараясь не видеть детских панамок, потерянных туфель, красно-бурых луж… по Московской улице, бормоча: пусть только попробуют сказать! Через семь месяцев Сергей, сдерживая слезы, будет бежать по улицам Новочеркасска… А Париж? Что Париж? Никто в Париже не будет стрелять в безоружных, все-таки Франция – цивилизованная страна, надо понимать разницу.
Но это все – только следующим летом. А сейчас, похмельным утром 18 октября, Сергей стоит в актовом зале Гидро-метео рологического института… алый кумач, черный креп, головная боль, траурные речи.
Осеннее солнце желтыми полосами рассекает шеренги академиков, докторов и младших научных сотрудников, словно отдавая свою дань уроженцу страны, щедрой на яркий свет, синее небо и контрастные цвета. Саркис стал большевиком еще в те времена, когда мы с ним учили гидродинамику в Париже, шамкает с кафедры академик, похожий на поседевшего моржа, и Сергей думает: надо же, я и не знал, что дедушка жил в Париже. В одно время с Эренбургом, даже странно представить.
Сергей снова думает: эх, жаль, что я не догадался расспросить – а теперь уже поздно, что поделать… Надо было при ехать пораньше, в прошлом году, сразу после школы. И почему я решил, что не поступлю в здешний Политех? Учился бы вместе с Толстым, тоже писал бы стихи.
Подходят прощаться – шаркая ногами, один за другим, траурной очередью, вот они – пережившие сверстники, скорбные завистники, благодарные ученики, равнодушные зрители, вот так же, один за другим, и отправятся в могилу, в том порядке или ином, неотвратимо, как капли дождя осенью, как чужие словоблудия на похоронах твоих близких, как собственные праздные мысли. А потом ты в свой черед подходишь к гробу, ежась от внезапной мысли – это ж мой первый умерший! – нагибаешься и целуешь холодную твердую щеку, исколотую изнутри пробившейся посмертной щетиной, мертвый больничный запах, последний прощальный поцелуй. Нет, не обманывай себя, не дедушку Саркиса ты целуешь – ты целуешь труп.
Сергей выпрямляется и впервые замечает отчима. Вардан стоит прямо, плотно сжав мясистые губы, пиджак топырится на вздувшемся животе, пальцы теребят пуговицу, вот-вот оторвется – а рядом она, малолетняя шалава, охочая до чужих мужиков, худая, коротко стриженная, из выреза черного платья выпирают острые ключицы, хрупкая ладонь ложится на локоть Вардана, словно успокаивая.
Похожа на Галю, думает Сергей. Как странно. На секунду ему кажется: это Галя и есть. Не безвестный Валера, а заслуженный художник Вардан Асламазян увел у него первую любовь, любовь всей его жизни. Он опоздал, опоздал навсегда: опоздал к рассказам деда, к Галиной любви, к славе, яркому солнцу Армении, Монмартру и Парижу, к бескрайнему миру по ту сторону железного занавеса.
Не он один – всё поколение. Они опоздали. Другие художники написали великие картины, другие фланёры обжили улицы, наполнили их смыслом, создали городу славу и легенду. Другим достались Нади и Гали, Ольги и Лидии, царственные любовницы, вдохновлявшие на шедевры, дарившие бессмертие. Другим досталось мужество, готовность к схватке, верность идеалам.
Вифредо свешивается с моста, смотрит на мутные воды. Уехать из города? Куда? Пересечь океан, вернуться домой? А может, попросту перекинуть ногу через перила, взглянуть напоследок на свинцовое парижское небо, помпезные фасады дворцов, одинокие фигуры, бредущие вдоль набережных? Взглянуть – а потом оттолкнуться и хоть на секунду взмыть в небо, набрав в легкие прохладного осеннего воздуха, взлететь – и с тихим плеском уйти под воду, словно труп, сброшенный ночью с моста? Но – бррр! – вода такая холодная, в кармане – билет на поезд, и Вифредо бросает последний взгляд на прихотливые речные волны, поплотнее запахивает пальто, а потом исчезает в толчее набережных, Невского проспекта и бульвара Монпарнас.
Понимаешь, Россия – это такая страна, откуда все всё время уезжают. Кто-то возвращается, кто-то приезжает снова, но все равно – для нас это такая страна, откуда все бесконечно уезжают. Эмигранты после революции, беженцы в войну, евреи в семидесятые… у моих родителей уехали ближайшие друзья, так что все мое детство прошло в размышлениях об их судьбе. Даже не о том, что лучше – уехать или остаться, а просто о том, какова жизнь там, по ту сторону. Я представлял себе ностальгию, воображал, что чувствует человек, который знает, что никогда-никогда не сможет вернуться туда, где прошли его детство и юность…
Но я не собирался уезжать. Я знал наизусть «не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам» и «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», ахматовскую классику, – ну, и других авторов, похуже, что-то вроде «но всем живым нельзя уехать с живой земли» или «уезжайте – а я останусь, я на этой земле останусь, кто-то должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой».
А потом наступил конец восьмидесятых, занавес рухнул, все снова стали уезжать. Я прочитал у Дмитрия Савицкого: «Москва превратилась в густонаселенную пустыню», – и подумал, что это про меня, так много друзей и приятелей уехало. И все девяностые мы, оставшиеся, спрашивали себя: правильно ли мы сделали?.. или нет, мы говорили, что те, другие, потеряли возможность жить в удивительное время. Я спросил приятельницу, не жалеет ли она, что уехала, а она ответила: «Можно подумать, ты остался!» – и в самом деле, той страны, где мы жили, уже нет, так что, оказалось, мы все уехали, тем более что многие, наоборот, вернулись в Москву – и из Израиля, и из Америки…
А потом наступили двухтысячные, и постепенно все стали снова уезжать… вначале еще говорили про дауншифтинг, расслабленную жизнь в Азии, возможность быть гражданином мира, жить на три столицы, но чем дальше, тем увереннее возвращалась знакомая риторика моего детства: навсегда забыть эту страну, выбрать свободу; и, наоборот: кому мы там нужны? надо остаться, чтобы сохранить верность своим идеям, надо попытаться хоть что-то изменить здесь… Ощущение дурного замкнутого круга было так сильно, что я, наверно, и уехал для того, чтобы мои дети или хотя бы мои внуки больше не принимали в этом участия. Даже если они будут думать «а не вернуться ли мне в Россию?», это будут их персональные размышления, а не морок, охвативший всех вокруг.
Чего я не чувствую, так это ностальгии. Если я чем-то и заплатил, то лишь стыдом, который испытываю, читая в «Фейсбуке»: «Если бы они не уезжали последние двадцать лет, сегодня на улицы вышло бы не пятьдесят тысяч, а полмиллиона, как в 1990-м». Ну да, стыдно, а как же иначе? Я ведь вырос, повторяя, как мантру, что с живой земли нельзя уехать всем живым, и убежденный, что кто-кто, а уж я-то точно буду с моим народом там, где он окажется.
13.2
1992 год
Бисмилляхир рахманир рахим (remix)
После каввали всегда приходит опустошение: как будто Аллах покидает Зульфакара, а вместе с Ним из тела уходят все силы. Мастер Ахмед Хан говорил: это потому, что ты мало уделяешь внимания молитве. Ты поёшь, как певец на концерте, ты опьяняешься звуками своего голоса – и когда каввали заканчивается, тебе плохо, как пьянице, у которого закончилось вино. А надо петь так, будто ты молишься, – и тогда после каввали в твоем сердце будет одна лишь умиротворенность – как после молитвы.
Конечно, мастер прав – но здесь, в Европе, вдали от сияющих снежных гор и ледяного голубого неба, Зульфакару почти никогда не удавалось петь, как его учил Ахмед Хан. Всё, что он мог сделать после концерта: сесть, закрыть глаза и постараться увидеть, как взлетают к небесно-синему куполу гробницы святого Али белые голуби – крылатое эхо заснеженных вершин, окружающих Мазари-Шариф. Сто тысяч птиц чистейшего алебастрового цвета, без единой черной или сизой отметины, которая запятнала бы чистоту Голубой мечети, ее святость.
Когда-то давно старший брат, Али, рассказал, что если случайно к стае прибьется серый голубь, через несколько часов Аллах очистит его, – и маленький Зульфакар часами просиживал на площади, поджав под себя больную ногу и мечтая увидеть чудо собственными глазами. Возможно, он думал, что Аллах, стирающий пятна с птичьих крыльев, мог бы мимоходом исцелить и его, – но Зульфакару так ни разу и не довелось увидеть сизого, черного или серого голубя: видать, Аллах очищал их еще в воздухе, на подлете к священному месту.
Нечистые птицы так и не прилетели – но в Мазари-Шариф пришли воины неверных. Впрочем, шурави тоже остались для Зульфакара невидимыми – ночью перед вторжением отец вывел семью из Мазари-Шарифа, и весь долгий путь до Хайберского прохода Зульфакар думал, сумеет ли Аллах очистить души неверных, как очищает крылья голубей. Увы, и это чудо – если оно свершилось – осталось от Зульфакара сокрытым: доходили слухи о шурави, принявших истинную веру, но никто не мог сказать, случилось это у стен Голубой мечети или в палатке полевого командира, после пристрастного допроса.
Самому Зульфакару ни один шурави так и не встретился – ни в Пешаваре, ни в Хайбере, ни здесь, в Европе, где он живет уже четыре года.
В Европе не хватает гор. Голландия, Бельгия, Германия – плоские страны. Говорят, на юге, в Швейцарии и Франции, есть Альпы – Зульфакар, если будет воля Аллаха, надеется их увидеть. А еще больше надеется вернуться в Мазари-Шариф – особенно теперь, когда шурави ушли из Афганистана. На прошлой неделе он получил письмо из Пешавара от дяди Мохаммеда: мол, война скоро подойдет к концу. Да и здесь, в Берлине, говорят, что после того, как генерал Дустум перешел на сторону моджахедов, а Наджибулла бежал из Кабула, конец джихада близок.
Джихад закончится, и Зульфакар так и не сдержит клятвы, данной шесть лет назад над искалеченным телом Али, любимого старшего брата. Зульфакар поклялся, что убьет первого же шурави, которого встретит, даже если потом ему и самому придется умереть.
Зульфакар умолял отца отпустить его в горы, но вместо этого отец отослал его к Ахмеду Хану, чтобы тот научил Зульфакара искусству каввали. А потом – седобородый Фарид, Европа, один город за другим, выступление за выступлением… шурави давно ушли из Афганистана, война скоро закончится, а Зульфакар так и не исполнит своей клятвы: кому в горах нужен хромой калека?
Фарид говорит, что пение Зульфакара тоже служит делу джихада, что деньги, собранные на концертах, помогают покупать оружие для воинов, но Зульфакар все равно стыдится своей бесполезности, своего уродства, своей хромоты. Он верит: когда Аллах повелел ему явиться на свет увечным, у Него были на то причины. Но причины эти не были явлены Зульфакару – как не было явлено ему чудо очищения голубей, – и хотя мастер Ахмед Хан говорил, что, изувечив ногу, Аллах наградил Зульфакара дивным голосом, все равно в часы тоски Зульфакар все чаще сомневался, что когда-нибудь узнает, зачем Всевышний направил его калекой в этот мир.
Зульфакар открывает глаза – и видение белых птиц над голубым куполом покидает его. В комнате человек десять, большей частью – как всегда – незнакомые. Хозяин, молодой немец по имени Клаус, раскуривает большой кальян. Фарид, Абдул и Мухаммед пьют чай за круглым столиком, высокая худая девушка о чем-то говорит с худым темноволосым парнем в очках. Все остальные сгрудились вокруг Клауса, глядя, как он разминает в пальцах небольшой шарик гашиша.
Клаус впервые попробовал гашиш лет в пятнадцать, еще в школе – как, наверно, все его одноклассники. В конце концов, на Цоо можно было купить наркотики куда круче – от ЛСД до героина, а те, кто постарше, еще помнили конец семидесятых, когда Западный Берлин называли наркоперекрестком Европы. Полиция постаралась навести порядок – но приграничный город, где в казармах тоскуют молодые ребята из Штатов, Англии и Франции, всегда найдет, что предложить тому, кто ищет кайфа или забвения.
Клаус любил курить за Рейхстагом – это была восточная территория, полиция туда не заходила.
Удивительный все-таки город был наш Западный Берлин! – думает Клаус. – Я только после двадцати понял, каким странным было мое детство: улицы обрывались тупиками, контрольно-пропускные пункты были частью пейзажа, а в Грюнвальдском лесу мы играли, бегая между танков и подбирая упавшие банки с крекерами и конфетами. Американские солдаты – с оружием и в камуфляже – нас не гоняли, это был наш общий лес.
Репортеры по телевизору называли иностранных солдат «защитниками» или даже «победителями», но родительские друзья говорили «оккупационные войска» или «оккупанты» – и в этом не было никакой оценки, только привычка.
Солдаты почти не смешивались с берлинцами, даже ходили в другие дискотеки – типа взорванной ливийцами La Belle в Рокси-Паласт.
Были, конечно, и другие иностранцы – все больше музыканты и художники, они-то и открыли Клаусу глаза на родной город: ты не представляешь, насколько здесь круто! С ними вместе Клаус стал заезжать на Восток, даже завел приятелей в гэдээровском Берлине. Впрочем, они, наверно, ценили его как источник информации, гашиша и свежей музыки – после падения стены все куда-то потерялись.
Зато теперь иностранцев в городе стало куда больше. Вот прямо сейчас в квартире Клауса – группа афганских музыкантов с их антрепренером; Дик и Бетти, двое только тут познакомившихся англичан; студент из России и какие-то ребята из неизвестной восточно-европейской страны.
Вот такое берлинское афтер-пати 1992 года, все курят гашиш и беседуют про умное.
– «Конец истории» – это, может, и хорошо, – говорит Дик, – но все-таки немного обидно. Вспомните, что было сто лет назад! Ницше провозгласил смерть Бога, и все рванули на штурм пустых небес. Анархисты собирались жить без государства и собственности, сионисты, наоборот, хотели свое государство, коммунисты мечтали освободить рабочих от власти капитала, нацисты алкали древней магии и еврейской крови! А чем кончилось? Пшиком. Анархисты годятся только махать черными флагами, нацисты отправились на свалку истории еще до нашего рождения, а коммунисты – у нас на глазах. И что пришло на смену?
– Глобальные корпорации! – говорит из своего угла Бетти, высокая худая брюнетка. – Финансовые и страховые компании!
– Вот именно! Когда христианство умерло вместе с Богом, всем казалось, что мир открылся для множества новых религий, новых вер, но ни одна не сумела удержаться. Все сдулись, все обосрались!
– Фашисты и коммунисты, русские диссиденты и калифорнийские хиппи, – говорит русский юноша в очках, – они все принадлежали эпохе, которая завершилась. А сегодня мир подводит черту, итожит опыт двадцатого века. Этот век был страшен – но он был наполнен силой и славой, могуществом и красотой. Не только Аушвиц и ГУЛАГ – еще Гагарин и Вудсток. Но он закончился – и сегодня старая Европа, как герои Толкина, стоит на причале в Серебристой Гавани, в ожидании волшебной ладьи, что увезет ее в небытие.
Русский затягивается и передает мундштук хромому афганцу.
Как он пел сегодня, а? Клаус до сих пор не может забыть!
Зульфакар с грустью смотрит на кальян – дешевая турецкая поделка, купленная на Цоо, – и глубоко затягивается. Если Аллаху будет угодно, этот гашиш окажется хотя бы на десятую часть так же хорош, как тот, что делают в Хайбере его родные.
Лучшая в мире конопля растет на склонах гор вокруг Мазари-Шариф. Лет через пять после того, как туда пришли шурави, они решили уничтожить все посевы – и тогда в Пешавар к дяде Мохаммеду явился англичанин, предложивший заплатить огромные деньги за два килограмма семян мазарийской конопли. Сначала все над ним смеялись – никто не покупает семена, все покупают гашиш, – но англичанин объяснил, что из разных семян вырастают разные растения. И семена с полей вокруг Мазари-Шарифа – лучшие. Зульфакар тогда подумал, что это глупость: важны ведь не семена, а то, насколько жарким было лето, были ли дожди, на солнечном или тенистом склоне растет конопля, – но деньги предлагали хорошие, и Али вместе с несколькими моджахедами отправился к их родному городу, в глубь страны, захваченной неверными.
Никогда еще Зульфакар так не проклинал свое увечье! Как бы хотел он пойти вместе с братом и еще раз увидеть голубые купола Мазари-Шарифа!
Они вернулись через четыре дня, и, видимо, слова англичанина убедили Али: они принесли не два, а три килограмма – самим проверить, действительно ли мазарийские семена лучше тех, что столетьями используют местные крестьяне.
– Ну как? – спрашивает парень в очках. – Хорошая вещь, да?
Зульфакар рад, что уже немного понимает английский. Правда, когда европейцы говорят между собой, он не разбирает, о чем речь, – но когда обращаются к нему, почти всегда может ответить.
Вот сейчас парень спросил его, хороший ли гашиш, который они курят. Зульфакар вспоминает, как готовят гашиш в Мазари-Шарифе: зацветшую коноплю катают в свернутом ковре, пока вся пыльца не осядет на ворсе; потом растения выбрасывают, а свалявшуюся пыльцу собирают, формуют длинные тонкие колбаски. В Хайбере ждут, когда растение даст первые цветки, срезают и крошат верхушку, потом заворачивают в белую козлиную шкуру и кладут в землю. Вторые цветки срезают и заворачивают в коричневую козлиную шкуру, а третьи – в черную. Лучший гашиш получается из шкуры белого цвета – цвета снегов и голубиных крыльев, – но его всегда бывает очень мало. Из коричневой и черной шкуры выходит куда больше – и именно этот гашиш продают в Европу и Америку.
Зульфакар прислушивается к себе: в этом гашише даже вторых цветков едва-едва. Но, как положено гостю, он серьезно кивает и отвечает:
– Да-да, хороший.
Фарид, антрепренер афганцев, пьет чай с другими музыкантами. У него молодое лицо и почти седая борода. Покурившему Клаусу чудится, будто он уже встречал Фарида много лет назад, во времена западно-берлинского панк-рока и подпольных концертов на восточной стороне. Только бороды у него не было. Было бы смешно, если бы он ее специально отрастил… и покрасил… ну, чтобы выглядеть солидней и вызывать уважение.
Чуть покачиваясь на каблуках, Бетти подходит к Фариду.
– Я не знаю афганского, – говорит она, – но все равно чувствую в каввали мощную духовную компоненту. Ведь правда, каввали – это что-то вроде духовной практики?
– Каввали, – отвечает Фарид, – это такой способ уменьшить расстояние между Творцом и творением. Можно сказать – молитва.
Он говорит по-английски чисто, как человек, который давно живет в Европе. Нет, точно, где-то я его встречал, думает Клаус.
– В исламе меня привлекает его чистота, – говорит Бетти, – Я думаю даже принять когда-нибудь ислам. Вы не знаете, что для этого нужно сделать?
– Нужно произнести шахаду, свидетельство веры, – отвечает Фарид, – признать, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – его Посланник и Пророк.
– И всё?
– Да. Но произнести это нужно так, чтобы слова шли от сердца.
– Бетти, хочешь принять ислам? – переспрашивает Дик. – Будешь носить хиджаб и все такое?
– Ну, хиджаб, наверно, не обязательно, – Бетти надувает ярко-красные губы, – но мне надо быстро определиться с религией: а то лето кончится, я вернусь в Лондон и там с тоски пойду работать в какую-нибудь корпорацию… ну, страховую или финансовую… тогда – прощай, духовное развитие. Стану обычной офисной крысой.
– Ну что ты, – говорит Дик, – даже в офисе будет видно, что ты – особенная.
Чуть заметная улыбка мелькает на лице Фарида – потом он подносит ко рту чашку.
На соседнем диване русский пытается разговорить Зульфакара.
– Меня зовут Митя, – представляется он, – а ты из Афганистана? – (Зульфакар кивает.) – Вот, не поверишь, впервые вижу афганца. Очень, знаешь, странное чувство: я всегда эту войну осуждал, ты не думай, я вообще был очень антисоветски настроен… но мне казалось, что она ко мне, типа, не имеет отношения. Друзья мои в армию не ходили, цинковых гробов никому из знакомых не присылали, ну, и я жил, как люди живут: в кино, на лекции… или там с девушками… Совершенно не держал в голове, что моя страна в твоей стране воюет. Я, наверное, должен перед тобой извиниться – ну, потому что это неправильно. Даже если я не протестовал, как хиппи в шестидесятые, то хотя бы помнить об этом должен был, да?
Зульфакар растерянно оглядывается – кажется, он не очень хорошо понимает английский. Подходит Фарид, они обмениваются несколькими фразами на пушту, и Фарид поясняет Мите:
– Шурави убили его старшего брата.
– Вот я и говорю – прости, – говорит Митя. – Это ужасно, что была эта война, и я очень рад, что наши войска наконец ушли, ну и так далее. Короче, ты понимаешь… но у нас в СССР не было вообще никакой возможности ничего поделать. Ну, вышел бы я на площадь с плакатом, ну, посадили бы меня в тюрьму – ничего бы не изменилось, понимаешь? Я бы его брата точно не спас! И это все-таки было очень далеко, за самыми южными границами, я даже близко там не бывал! Короче, ты переведи ему, что я извиняюсь.
Фарид нагибается к Зульфакару, а Дик говорит русскому:
– Расслабься, парень. Когда-то мы делили их страну, и это была наша Большая Игра. Кто-то из моих предков воевал там, может, даже с кем-то из твоих. Воевали наши – а убивали все больше местных. Так что теперь они хотят, чтобы мы оплатили счета за два века – и ты, и я. По-своему справедливо, нет?
– Знаешь, – отвечает Митя, – я устал, что мне все время предъявляют. Зульфакар – погибшего брата, ты – погибшую маму, поляки – Катынь, а чехи – шестьдесят восьмой год.
– Это и есть бремя белых, – поясняет Дик. – Мы, англичане, через это прошли, вы, русские, проходите сейчас, а вот американцам еще предстоит.
– Но это же чушь! – кричит Митя. – Это же коллективная ответственность! Это как брать заложников! Я не могу отвечать за Катынь и за шестьдесят восьмой год – я и родился-то в шестьдесят седьмом! Даже за «боинг» и за Афган не могу! Я же не предъявляю немцам Освенцим, сожженные белорусские деревни и блокаду Ленинграда?
– Это потому, – говорит Бетти, – что немцы провели денацификацию. Они раскаялись в своем прошлом, и вам, русским, тоже надо.
– Что нам надо? – спрашивает Митя. – Мы же не немцы, нас никто не освобождал. Мы сами своих коммунистов свергли, можно сказать, без всякой вашей помощи!
– А мне не нравится наша денацификация, – вступает в разговор Клаус. – Мы делаем вид, что нацизм – это был несчастный случай. Такая «болезнь», от которой можно «вылечиться», – пальцами он расставляет в воздухе кавычки, – а это не так.
– Почему? – спрашивает Бетти.
– То, что вызвало нацизм, – это органическая часть нашей немецкой души, немецкой аниме. Стремление к порядку. Поиск всемирной гармонии. Вселенский масштаб. И это никуда не делось, оно по-прежнему здесь, но куда удобней ничего не замечать и говорить, что нацизм – это «темные страницы в нашей истории». А ведь то, что породило Гитлера, породило, я не знаю… Баха и Генделя. Надо признать это – и тогда мы сможем контролировать эту сторону нашей души. А надежда «вылечиться» – утопия, что-то вроде попытки создать «нового человека». Вредный самообман.
(перебивает)
Пару лет назад я оказался в музее «Мерседеса» в Штутгарте. Там вся история Германии в ХХ веке представлена через призму истории корпорации «Даймлер-Бенц». Раньше рассказ обрывался в 1933 году – и снова начинался в 1945-м, но теперь эту лакуну заполнили.
Посетителям напоминают, какие страшные преступления совершил Гитлер. Он развязал мировую войну. Отправлял людей в концлагеря. Использовал подневольный труд жителей Восточной Европы. В конце концов привел Германию к поражению. Союзники разбомбили наши города. Промышленность была уничтожена. Страна лежала в руинах.
И все это – по вине Гитлера и его режима.
Правда, в тридцатые годы он строил Очень Хорошие Шоссе. И покровительствовал автогонкам.
Как мы, лидеры немецкого автомобилестроения, могли остаться в стороне?
Смотрите: вот наши машины побеждают в соревнованиях. Вот наши спортсмены на пьедестале почета поднимают руку в приветствии. В обычном для того времени приветствии.
Да, мы использовали труд военнопленных, но после войны мы всем выплатили компенсацию. Кому смогли. И, главное, как только сюда пришли американцы – мы с первого же дня помогали восстанавливать Германию после той катастрофы, к которой ее привел Гитлер.
Очень хороший музей. Не то про Германию, не то про крупный бизнес вообще. Или про оправдания тех, кто очень хочет сотрудничать с государством.
У нас в России такого музея нет. Может, потому, что наши города еще не разбомбили союзные войска.
– Выходит, у немцев это стремление к мировой гармонии, – задумчиво говорит Митя, – а у русских, наверное, поиски абсолюта. Быть русским – это значит жаждать абсолюта, стремиться довести все до предела – и даже дальше, по ту сторону.
– Похоже на поиски Бога, – говорит Дик.
– В том-то наша беда, – отвечает Митя, – что русские сплошь и рядом жаждут абсолюта, но отвергают небеса.
– Мне кажется, вы, русские, себе льстите, – возражает Клаус. – Вас превращает в чудовищ тоска о сильном государстве. Вы будете ему служить или с ним бороться, убивать за него или за него извиняться – но за него, а не за себя. А оно в ответ вас накормит, напоит и обогреет.
– Так это же welfare state, – смеется Дик, – заветная мечта Америки и Европы!






