Калейдоскоп. Расходные материалы Кузнецов Сергей
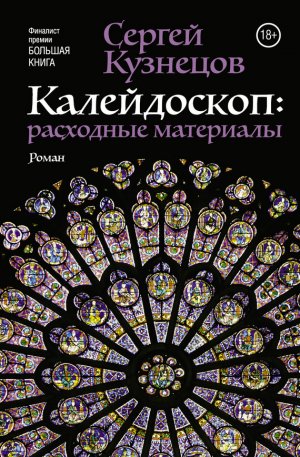
София кивает:
– Да, да, понятно. И полиция арестовала этого человека? Его отправили в лагерь в Сибирь, хотя он был невиновен?
– Нет, в последний момент поймали настоящего убийцу. Какой-то психопат.
– Серийный убийца, – понимающе кивает София.
– Да, как в сериале. Он в пригороде Москвы влезал в летние дома, в дачи, грабил и убивал. Советские газеты никогда не пишут о таком, так что никто не знал. Это очень хорошо, что его поймали. Олег очень удачлив.
– И вы поэтому не хотите? – спрашивает София. – Потому что, ну, это была ваша подруга, и до сих пор эта история…
– Ну да, – говорит русская, – именно так.
София думает, что сейчас ей не помешала бы пара дорожек кокаина. Уговорить русскую – ее последнее задание. Режиссер сказал, что если русская откажется, то всю линию про сатанистов придется вырезать и, значит, София так и не сыграет в этом фильме. Даже Лоренцо ничего не сможет тут поделать.
Лоренцо очень милый, трогательный такой, нежный. И не подумаешь, что пишет сценарии к этим жутким фильмам.
Наверное, такими и должны быть настоящие люди искусства.
– Давайте я попробую еще раз объяснить, – говорит София. – Это не просто какой-нибудь банальный триллер, обычный криминальный фильм. Это – настоящее кино, искусство, такая история ХХ века, увиденная через призму насилия и террора… через изображение насилия и жестокости.
Русская кивает.
– Когда я говорю «насилие», я имею в виду и насилие над женщинами, сексуальное насилие. Проявление мужского стремления к убийству в истории как противоположность женскому стремлению к продолжению жизни.
Русская пожимает плечами:
– Я никогда не думала, что между мужчинами и женщинами такая уж большая разница. Оба они хотят любви, оба они не могут ее удержать.
«Оба они» – значит «мужчины и женщины», переводит про себя София и ужасается: черт, у них в Советской России наверняка запрещены всякий феминизм и борьба за права женщин. Как же объяснить?
– Я хочу сказать, что участие в этом фильме – дань памяти вашей покойной подруги… э-э-э… то, что вы можете сделать в ее память. В память всех женщин, с которыми такое случилось.
– Мне не надо ничего делать ради Татиной памяти. Я ее всегда помню.
Тонкие руки обхватывают огромный живот, ладони поглаживают, словно успокаивая.
– А еще, – говорит София, – это шанс лично для вас. Если вы сможете это сыграть – вы с этим расстанетесь. Это называется сублимация, это еще у Фрейда описано. Вы ведь, наверное, читали Фрейда?
– Нет, – говорит русская – у нас его не переводят. Фрейд запрещен в Советском Союзе.
Ах да, как я могла забыть. В Советской России запрещено все, что несет свободу. И Фрейд, конечно, тоже.
– Ну, я сама попробую объяснить, – неуверенно продолжает София. – Тут главная идея, что самые страшные воспоминания можно как-то выразить художественно и таким образом от них освободиться. Понимаете?
Русская кивает.
– Я не хочу освобождаться, – говорит она, – но я подумаю. У меня есть телефон Лоренцо, я позвоню, если решу.
Она протягивает тонкую руку. Замешкавшись, София пожимает худую холодную ладонь.
Русская смотрит без улыбки.
– Будете звонить, – вдруг говорит София, – просите побольше. Для ребенка. Дети очень дорого обходятся.
(перебивает)
Неудивительно, что у нее денег не было. Когда люди эмигрировали из СССР, они ничего с собой вывезти не могли. Выкручивались, как умели.
У меня есть одна знакомая, сейчас живет в Германии. Когда ее родители уезжали, ей было лет семнадцать. Она была влюблена в одного непризнанного андерграундного художника. Как положено в семнадцать лет – безумно. Никуда уезжать не хотела. Надеялась, что все сорвется.
Уже начиналась перестройка, им выдали разрешение на выезд. Художник в аэропорт не приехал. Девочка обняла напоследок остающихся в Москве подружек и следом за родителями прошла через таможню к регистрации.
Сначала вылет задержали на час. Потом еще на два. Сквозь стеклянную стену девочка стала посматривать на телефон-автомат. Спросила маму, можно ли выйти позвонить. Мама запретила.
Потом рейс задержали еще на час. В зоне ожидания не было никаких магазинов. Таможенники стали выпускать пассажиров купить воды. Девочка, дождавшись, пока мама отвернется, выскочила следом. В телефоне-автомате набрала номер любимого и в сотый раз стала прощаться.
Через десять минут мама нашла ее и увела на посадку. Всю дорогу они молчали.
Спустя много лет мама сказала:
– Ты думаешь, почему я тебя не отпускала?
– Боялась, что сбегу?
– Нет, ты что! У тебя просто в резинке для волос были зашиты бриллианты – и я не хотела, чтобы ты лишний раз туда-сюда через таможню ходила.
Бриллианты – ненадежное вложение. У меня есть в Израиле знакомый индус. То есть еврей из Индии. Его отец был крупным адвокатом, и мальчик все детство жил в настоящем дворце.
Однажды он признался, что до пяти лет вообще не ходил.
– Что-то с ногами? – спросил я.
– Нет, – ответил он, – слуги носили.
Потом в Индии случилась деколонизация. Имущество белых адвокатов было национализировано. Родители продали всё, что могли. На все деньги купили бриллиантов, стали готовится к отъезду.
В Англии их никто не ждал. В Америке – тем более. Бывший адвокат вспомнил еврейских предков, и они, полные надежд, отправились в Израиль.
Надежды не сбылись. Бриллианты украли в первую же неделю. Хорошую работу найти не удалось. Пока мальчик не начал зарабатывать, семья жила в нищете.
Когда я его встречаю, я думаю: какая странная судьба. Десять лет жить во дворце как раджа, а следующие пять – в позорной бедности.
Принц и нищий в одном лице.
– Мотор!
Антонелла не спеша, чтобы зрители успели рассмотреть ее совершенную фигуру, идет к огромной кровати.
– Приготовиться! – командует Сальваторе. – Сейчас ты ляжешь и увидишь, что на простынях выступает кровь! Приготовься орать! Ори что есть силы! Как будто к тебе в трусы залезла змея!
Антонелла забирается в кровать, жеманно вынимает испачканную в краске руку из-под одеяла и слабо взвизгивает.
– Не так, не так, больше страсти! – кричит Сальваторе. – Запусти туда руку поглубже, будто мандавошек у себя давишь – и ори как следует!
Антонелла шарит рукой под одеялом, на ее лице выражение брезгливой скуки сменяется удивлением и любопытством. Она откидывает одеяло – и вот тут наконец-то раздается тот самый крик! Звукооператор подскакивает, Сальваторе чуть слышно произносит «есть!», Лоренцо на заднем плане приплясывает от восторга.
Антонелла орет, закрыв лицо руками, отползает к краю, окровавленная рубашка задирается до самого зада, она судорожно перебирает ногами, словно в агонии.
Съемочная группа потрясенно замирает. Слышен шепот: ничего себе дает! – и только через минуту кто-то наконец замечает: в кровати Антонеллы лежит отрезанная голова ее сиамского кота.
Выбросили на улицу, повторяет про себя Нортен. Как ненужную рухлядь. Подставили, оклеветали и выкинули на улицу. Не убивал я ее кошку, Бог мой, конечно, не убивал. Я вообще люблю животных. А что я к ней пришел две ночи назад – так было же письмо!
Да, фальшивое письмо. Опять фальшивка, как вся эта поездка.
А Лесс Харрисон? Тоже хорош, крысий дрын, дешевка! Сдал меня, как итальяшки – сбитого летчика. Стоило этой шлюхе сказать «либо я, либо он», сразу прислал телеграмму: «Согласен Костини важнее фильма чем Нортен. Уволить выплатив компенсацию».
Компенсация! Гроши! Хорошо еще – обратный билет. Быстрее в аэропорт – и домой.
Выбросили на улицу, повторяет он про себя. Выбросили на улицу.
Ноги опять несут Нортена лабиринтом римских переулков. Пусть туристы любуются Колизеем и форумом – он предпочитает узкие улочки, случайные встречи, поблекшие воспоминания.
В Колизей Терри привела Лючия. После бомбежек руинами его было не удивить – и он даже не сразу понял, что эти развалины – не результат нынешней войны. Бутылка вина, немного сыра и фруктов – они закатили настоящий пир в ведущем на арену коридоре, примерно там, где спустя тридцать без малого лет Брюс Ли на радость мальчишкам всего мира будет драться с Чаком Норрисом. Медно-рыжие волосы Лючии сверкали на солнце, а губы ее были красны от поцелуев и дешевой помады с черного рынка. Они были влюблены (по крайней мере, Терри был влюблен) и потому не помнили, что две тысячи лет назад на этой арене умирали и убивали. Не помнить было совсем просто – за годы войны они научились не думать о тех, кто уже умер, о тех, кто morituri, идет на смерть.
Что мне смотреть на Колизей? – думает Нортен. – Разве моя жизнь – не тот же Колизей? Величественная руина, памятник былой славы.
Он горько ухмыляется, понимая, что в определенном возрасте любой турист думает о себе так же.
Внезапно Нортен останавливается. Он узнал улицу. Там, за углом, был дом, где в квартире с тремя коридорами жила Лючия и другие шлюхи. Он узнал место – и внезапно вспомнил, как был здесь последний раз, зимой, накануне отправки в Америку.
Он сам не знал, зачем шел к Лючии в тот раз. Попрощаться? Позвать с собой? Пообещать вернуться и найти ее? До последней минуты Терри не знал, что скажет.
В конце концов, ему было всего двадцать два. Простой парнишка со Среднего Запада, сполна хлебнувший войны и любви.
Квартира была разгромлена. Все перевернуто вверх дном. Разодранные занавески и скатерти валялись на полу. Стулья, столы и комоды разломаны. Все, что можно искорежить и разрушить, было искорежено и разрушено. От обстановки квартиры не осталось почти ничего. Стекла выбиты, и ночь заглядывала в окна призрачными черными зрачками. Девицы сгинули, осталась только одна старуха, нацепившая на себя все свои кофты и юбки, обмотавшая голову шалью.
Военная полиция разгромила бордель. Девочек выбросили на улицу, не дав даже толком одеться.
Да, сказал себе Нортен, вот почему я не попрощался с Лючией. Я не нашел ее здесь, а искать по городу уже не было времени. Я убрался из города. И забыл о ней. Предал ее. И вот сейчас снова вернулся сюда, не на место любви – на место преступления. Да, моя жизнь – развалина, но не величественная руина Колизея, а разоренный бордель с выбитыми окнами и разломанной мебелью.
Всех, кто был там когда-то счастлив, выбросили на улицу: сначала – Лючию, теперь – его самого.
Нортену кажется: стоит повернуть за угол, он опять увидит зияющие провалы выбитых стекол и на пороге – замотанную в тряпье старуху.
Нет. Прошлого не осталось. Разгромленная квартира Лючии не была бы фальшивкой, была бы единственным настоящим местом в этом Риме.
Окна, конечно, давно вставили, в квартиру вселились новые жильцы, завезли новую мебель. Никто даже не помнит, что было здесь тридцать лет назад.
Терри Нортен поворачивает за угол – но, не успев рассмотреть дом, видит: навстречу идет женщина, медно-рыжие волосы спадают на плечи, в низком вырезе вздымается большая грудь, короткая юбка плещется у самых бедер.
– Привет, красавчик, – говорит она, – хочешь поразвлечься?
София чувствует себя усталой и разбитой. Полчаса бродила по площади, пытаясь найти волшебное место, описанное путеводителем как «один из двух геометрических центров колоннады». Якобы если встать туда, колонны сольются в одну. Как могут слиться в одну столько колонн, София не понимала, но как бы то ни было, места она не нашла, только замучилась от жары и слепящего солнца.
Нырнула в спасительное убежище собора – здесь хотя бы прохладно. Теперь ходит, задрав голову, рассматривая росписи.
Интересно, думает София, если бы в их городке была такая роскошная церковь – она бы поверила в Бога? Если Бог взирает с фрески пронзительными глазами и свет льется через витражи – это ведь совсем другое дело, чем когда преподобный отец Добсон каждое воскресенье талдычит одно и то же, мыча и запинаясь.
А может, и нет никакой разницы. Если Бог есть – почему Он являет себя только в Риме, а не в городе Мэйплвуд, штат Миннесота?
София подходит к скамейке, секунду колеблется – не стать ли на колени, как положено. От каменных плит поднимается холод, ей зябко, вовсе не хочется голыми коленками на низкую деревянную ступеньку. Она садится, спрятав под сиденье длинные ноги, оправив короткую юбку.
Ну вот, думает София, так мечтала увидеть Собор святого Петра – и что? Ей грустно и одиноко, как никогда еще не бывало в Риме. Наверное, при взгляде на этих людей: они верят в Бога, Он помогает им с небес, а она, София, совсем одна.
Простуженно хлюпает носом и с тоской вспоминает пакетик, оставленный в отеле. Что я делаю в Риме? – думает она. – Зачем все это? Я ведь сама себя обманываю, как и все эти люди. Только они придумали себе Бога, а я – великий фильм, в котором снимаюсь. А на самом деле это обычная поделка, чтобы показывать на сдвоенных киносеансах перед по-настоящему хорошими, дорогими фильмами. И я сама – никакая не актриса, никакая не гонзо-журналистка, просто маленькая девочка с длинными ногами и большими сиськами, которые нравятся мужикам. И никому-то не нужно ни мое знание кино, ни моя готовность отдать себя искусству – им бы только залезть мне под юбку, словно я – обычная шлюха. Впрочем, какая шлюха? Я ведь даже денег не беру, я так, забесплатно. Как должна называться такая женщина? София задумывается, и вдруг нужное слово приходит из глубин памяти, будто озвученное голосом преподобного отца Добсона, гулко разносящимся под сводами святого Петра: блудница.
Да, вот правильное слово.
София прикрывает руками низкий вырез, пытается спрятать под скамьей обнаженные ноги. Мне должно быть стыдно, думает она, надо уйти отсюда.
Она почти бежит по проходу, цокот каблуков разносится между колонн.
Вернуться домой? Бросить всё? Пусть ищут другую дуру сниматься в своем фильме? Не гневить Бога?
Яркий солнечный свет бьет ей в лицо. София замирает.
Что за чушь, говорит она себе. Бога нет, а если есть – ему нет до меня дела. Раз уж я приехала сюда – надо идти до конца. Завтра мой первый съемочный день, сейчас пойду домой, еще раз повторю роль, подготовлюсь к съемке.
Кредитка – в сумочке, бумажный пакетик – в тумбочке у кровати, если не хватит – Джузеппе обещал еще принести.
Скоро все наладится.
– Ты ведь Лючия? – спрашивает Нортен, и Кьяра кивает, ей не жалко, Лючия так Лючия. – Ты почти не постарела, – говорит Нортен, и Кьяра улыбается немного кокетливо, хотя и злится про себя: неужели она в свои тридцать пять так плохо выглядит? – Ты помнишь, помнишь, как мы с тобой тогда, в сорок пятом? – спрашивает Нортен, и, чтобы не отвечать, Кьяра снимает платье и расстегивает лифчик.
Нортен держит в руках грудь Лючии, такую же тяжелую, как тридцать лет назад, но теперь обвисшую, в морщинах, с маленьким шрамом у правого соска. Оливковая кожа потемнела и теперь напоминает Нортену мексиканских официанток. Да, тридцать лет и жгучее солнце Италии, от которого слезятся глаза и болит голова.
– Ты так изменилась, – говорит он, и Кьяра ложится в кровать, разметав рыжие волосы по подушке, думая: везет мне на сумасшедших стариков! Хоть бы у этого стоял.
Нортен зарывается ладонью в медные волосы Лючии. Странно, совсем не поседели.
– Лючия, – говорит он, – I love you.
– I love you too, – отвечает девушка, и Терри радуется, что хорошо учил ее английскому: самое главное она не забыла.
Он отстегивает чулки, осторожно их снимает. Капрон или нейлон, а тогда был только шелк. Настоящая драгоценность.
Он целует бедра Лючии, покрытые нежным сияющим пушком. Губы его постепенно двигаются к рыжеватому треугольнику волос. Девушка раздвигает ноги – и Терри припадает к ее лону, вдыхая сладкий, дурманящий запах, такой родной, такой знакомый.
И всё возвращается. Мир вновь становится настоящим, ему снова двадцать лет, из неведомой глубины женского тела поднимается дыхание любви, солнца, Италии, пахнет счастьем, сухой травой, терпким вином, овечьим сыром; пахнет будущим – прекрасным будущим, где нет бледнокожих благовоспитанных американок, нет калифорнийских поблядушек, нет денег и славы, Нью-Йорка и Голливуда, нет алкоголя, травы и кокаина, а есть только двое, мужчина и женщина, мальчик и девочка, Терри и Лючия.
Вот он, Терри Нортен, американский солдат, американский актер, пятьдесят с лишним лет, лежит, уткнувшись в видавшие виды пизду итальянской шлюхи, и Вечный Город обступает его. Развалины Колизея, развалины разбомбленного аэропорта, разгромленные квартиры, выбитые окна, лабиринт узких улиц. Фонтан Треви с туристами, пьяцца Маттеи с юношами, черепахами и дельфинами, черепица холмов, раскаленный полдень. Самолеты летят в небе, рокот «шермана», дробный перестук пулеметов, уханье падающих бомб, предсмертные стоны умирающих. Прижимаясь губами к межножью Лючии, Терри вспоминает их всех: тех, кто погиб в Салерно в сентябре 1943-го, кто сгорел заживо, не успев выпрыгнуть из танка, кто высунулся из окопа и поймал пулю, кто спрятался в воронку – а туда попала вторая бомба, кто утонул при форсировании Вольтурно; вспоминает тех, кто умер мгновенно, и тех, кто долго и страшно кричал в полевом госпитале; тех, кто перед смертью потерял руку или ногу; тех, кто успел оплакать свою не случившуюся жизнь… вспоминает тех, кто навсегда остался здесь, в Италии, или вернулся домой в прямоугольной коробке, укрытой звездно-полосатым флагом.
Терри плачет, его слезы теряются в складках темно-оливковой кожи. И тогда Кьяра – или Лючия? – протягивает руку и осторожно гладит седеющие спутанные волосы.
Целых две сцены, Боже мой, зачем я себе выпросила целых две сцены? – думает София. – Надо было просить одну. Для статьи и одна сгодится. А так мне выходить туда сейчас, под софиты, почти голой! Я же забуду все слова! Сейчас, сейчас… сначала я говорю «да, да», а потом еще раз «да, да», а следом – «смерть, смерть!»
Как Сальваторе мне говорил: главное – сиськи выпятить? Сейчас, сейчас потренируюсь перед зеркалом, вот, вот так хорошо, кажется, получается… твою мать, где же кокс? А, вот он, чуть не потеряла в собственной сумке. Зеркальце, кредиточка, трубочка… поехали. Еще всю ночь трахалась с этим Джузеппе. Жеребец хренов, кончить по часу не может, говорят, это от кокса у мужиков такая побочка… мол, некоторым бабам нравится.
Значит «да, да», потом «да, да», потом «смерть, смерть» – и сиськи не забывать выпячивать. Ну, с Богом, София! Удачи тебе!
Филипп Бонфон в широком белом балахоне возвышается на помосте. Сзади вовсю бьет прожектор, фигура словно охвачена сиянием.
– Дети мои! – гремит Бонфон. – Мои дщери! Девочки мои маленькие! Вот вы стоите передо мной на коленях, ручки сложили на груди, глаза на меня подняли – вы ждете, я что вам скажу? Вы же знаете, что вы пришли услышать, правда? Вы думаете, я расскажу вам, как надо жить? Как избежать греха и достичь Рая, верно? Вы ведь этого ждете?
Дщери, да. В самом деле – три девушки стоят перед ним на коленях. Одну Бонфон знает – американка, которую приняли за шпионку. Плюс две местные старлетки. Все трое – хорошенькие, в итальянском стиле – грудки, попки, губки. По молодости любил такое, было дело. Но молодость давно прошла. Сейчас, если даже уложить в постель всех троих, – ничего не выйдет. Стоп машина. Бонфон прогоняет эту мысль, он работает, нельзя отвлекаться, надо быть собранным! Он повторяет: Вы ведь этого ждете, да? – и три девичьих голоса слабым эхом отвечают: Да, да!
– Так не будет вам этого! – кричит Бонфон. – Хотите заповедей, хотите инструкций – идите в церковь! Вернитесь к маме и папе, пусть они ведут вас к священнику! Я не дам вам инструкций! Я дам вам свободу! Вы придумали себе жизнь, придумали дорожку, которой хотите идти, решили – так будет безопасней, будет спокойней? Не надейтесь! Никто не ходит по этой жизни прямыми дорогами. Ничто не даст вам безопасности и покоя! Каждый день – ищите новые тропы, прокладывайте новые пути. Вы слышите, что я говорю вам? Не покой я несу – но страх и откровение! Готовы ли вы их принять, ответствуйте мне, о дщери мои!
– Да, да, – одними губами выдыхает София. Кажется, она не забыла слова, слава богу. А грудь? Что там было про грудь? Черт с ней, с грудью! Но как он сказал: не покой, но страх и откровение! Не придуманную дорогу, а вечный поиск! Вот те слова, ради которых она приехала в Рим. Всего три недели назад ей казалось: она знает, чего хочет от жизни, знает свои планы, знает, что будет впереди, а теперь – словно кто-то протер ей глаза, вернул зрение, распахнул двери. В этой жизни не может быть никаких планов. В этой жизни каждый день – новое испытание, новое приключение.
София вот-вот заплачет, а охваченный сиянием человек на возвышении продолжает:
– Это тяжелая ноша, да. Я знаю, как вам нелегко. Я знаю – вам страшно. Вы спрашиваете себя – справлюсь ли я? Может быть, лучше и не пытаться? Отбросьте нерешительность, идите вперед, вооружившись твердым и несокрушимым намерением! И куда бы вы ни пошли – я буду с вами. Знайте: для того, кто идет своим путем, нет смерти – есть всего лишь трансформация нашей жизненной энергии. Я не умру, вы не умрете, нет! Наши сияющие тела сольются в едином экстазе с вечным светом иного мира!
София рыдает, она уже не разбирает слов, остается только голос, полный силы и любви, только божественная энергия. Она вливается в Софию, пронизывает все тело от макушки до пяток, стопы, голени, бедра, анус, влагалище, живот, грудь…
Да, грудь! Чуть было не проворонила: не забыть выпятить сиськи!
И София что есть силы выгибается, выпячивает бюст, чтобы божественное источающее свет существо обратило на нее внимание. Она хочет крикнуть: вот она я, я – твоя, возьми же меня, забери с собой, делай со мной что хочешь! – но в последний момент вспоминает: она все-таки актриса, надо держаться написанного текста. Какая там последняя реплика? Ах да:
– Смерть, смерть!
– Скажи мне, – говорит Ренато, – ты ведь все подстроил? И с котом, и с этим гениальным Бонфоном? Он был у тебя с самого начала в рукаве спрятан?
– Зачем тебе? – отвечает Сальваторе. – Все ведь получилось, правда?
– Получилось, да, – говорит Ренато. – Но, например, скажи: кошке кто голову резал? Ты сам? Лоренцо уговорил? Бонфон согласился? Бродягу нанял? Мне просто интересно.
– Какая разница? – отвечает Сальваторе. – Ты же знаешь, как делается кино. Когда Брандо на съемочной площадке трахнул в жопу Марию Шнайдер – Бертолуччи что, предупреждал Альберто Гримальди заранее?
– Ты меня пугаешь иногда, – говорит Ренато. – Я уже пятнадцать лет продюсирую фильмы ужасов, но почти всегда режиссеры – ну, такие ремесленники. Иногда им смешно, иногда – просто за деньги, иногда их прикалывает… но мы ведь снимаем развлекательное кино, по большому счету – сиськи-письки, ножи-булавки. Ты что, в самом деле серьезно к этому относишься?
– За кого ты меня принимаешь? – возмущенно говорит Сальваторе и, дождавшись, пока Ренато улыбнется, договаривает: – Серьезно ли я отношусь к тому, чем занимаюсь всю жизнь? Знаешь, если бы я относился к кино несерьезно, я бы чем-нибудь другим занялся.
Филипп Бонфон лежит в гостиничном номере. На полу – пустая бутылка “Jack Daniel’s”, в голове шумит, сна ни в одном глазу. Как-то я перестарался с кокаином, думает он, спуститься, что ли, в бар, еще выпить?
Но вылезать из постели не хочется. Сердце колотится в грудной клетке, тук-тук-тук. Как я сегодня сыграл, а? – думает Бонфон. – Может, надо было пойти в актеры? Впрочем, когда я начинал – кто мог подумать, что кино окажется тем, чем оказалось? Черно-белое, да еще немое… звезды все красавчики… нет, мне там совершенно нечего было делать.
А вот если бы родиться заново и начать все сначала – да, можно было бы попробовать. И был бы я не самым знаменитым мошенником, а мирового уровня кинозвездой. Ни тюрьмы, ни побегов, ни поддельных паспортов… А денег, может, даже больше было бы.
Вот черт, жизнь зря прошла!
Бонфон смеется. Это он пошутил. Жизнь была чертовски хороша! Как приятно было, пересчитывая деньги, понимать, что ты их не заработал – ты на них обманул!
У богов актеры и мошенники проходят по разным ведомствам знает Бонфон. Актеры – всего-навсего лицедеи, а мошенники – полномочные представители Гермеса на этой земле. Так что все, пострадавшие от его афер, – это просто жертвы, которые он приносил богам. Они, эти жертвы, всегда были добровольцами, они были жадными дураками, потому и попадались, потому их и не жалко.
Жертвы – Гермесу, да. Бонфон, конечно, предпочел бы не богов, а богиню: светловолосую богиню, с огромной грудью, с призывно раздвинутыми ногами. Жаль, греки не удосужились сотворить богиню мошенничества и обмана. Ее признание он хотел бы заслужить.
А может, и придумали, просто об этом не рассказывали в гимназии.
Интересно, думает Бонфон, если бы его родители выжили – они бы им гордились? Кто их знает. У него самого нет детей – ни детей, ни наследников. Головы современной молодежи забиты идеями: Фрейд, Маркс и этот, как его?.. Маркузе. Или вот еще – великое искусство кино. Идеалисты.
Бонфон никогда не любил идеалистов. Отец всегда говорил: идеалисты погубят Россию. Так и получилось.
И потому – ни идей, ни детей, ни наследников. Даже жены никогда не было. Подружки – да, бывали, но и те ненадолго. Мошенничество – одинокая работа. Как священнослужение, как у монаха. Почти что целибат.
Кажется, Бонфон засыпает – и тут его будит стук в дверь.
– Войдите! – кричит он, и сердце снова тук-тук-тук о ребра.
Бонфон зажигает прикроватную лампу. На пороге – София. Блузка расстегнута почти до пупа, клешеные джинсы, туфли на высокой платформе…
– Ты – Бог, единый Вседержитель! – шепчет она, падая перед Бонфоном на колени. – Верую в Тебя!
Пакетик кокаина вываливается из выреза прямо на раскрытую мужскую ладонь.
– Боже мой, Боже, возьми меня! – кричит София. Вспышки кокаиновых оргазмов взрываются в мозгу, и между ними молниями проскальзывает единственная мысль: я трахаюсь с Богом.
God fucks me.
Бонфон судорожно занюхивает остатки кокаина прямо с бумажки – как в молодости, да, никаких кредиток и банкнот. Все получилось, черт, все получилось! Просто девка что надо, высокая, худая, сиськи большие – не то что шлюха, которую мне подкладывал Сальваторе.
Бонфон пронзает Софию насквозь, стонет и хрипит:
– Бог любит тебя, крошка! Ты чувствуешь мою любовь?
– Oh, Fucking God, – отвечает София между вспышками своих оргазмов.
Мне случалось призывать неведомых богов, чтобы облапошить идиотов, думает Бонфон. Как любой мужчина, я обманывал девушек, чтобы забраться к ним под юбку. А вот выдавать себя за Бога, чтобы трахнуть телку, – это со мной впервые.
Может, я теперь только так и могу?
Доктор, вы знаете, я импотент. У меня эрекция, только если партнерша считает меня Богом.
– Боже, ох, Боже мой, – стонет София.
– Давай, девочка моя, давай, – подбадривает Бонфон.
Теперь она сидит верхом, лампа светит ей в спину, светлые волосы развеваются, тяжелые груди подпрыгивают в его ладонях. Как он говорил на площадке? Наши сияющие тела сольются в едином экстазе с вечным светом иного мира! И вот сейчас вечный свет взрывается где-то под черепной коробкой, Бонфон успевает подумать – что же скажут боги, в которых он не верил? Зачтет ли Гермес принесенные жертвы? Удастся ли выкупить свою душу? И тут наконец видит великую Фата-Моргану, химеру, богиню вранья, богиню мошенничества и обмана. В светлом сиянии разметавшихся волос она скачет, как безумная наездница, он – ее конь, сотканный из лжи, из иллюзий, из пустоты, из сияющего света.
Божественный Стержень разряжается между ног Софии струей Божественной Мудрости. Еще, еще, стонет она. Бонфон хрипит и замирает, вцепившись в ее груди.
Плача от счастья, София гладит его по волосам, целует неподвижные губы. Еще один оргазм сотрясает ее тело, а потом она видит: Бог умер.
Сальваторе кладет букет цветов на свежий могильный холм.
– Напоследок он все-таки стал актером, – говорит Лоренцо.
– Это его и убило, – отвечает Сальваторе. – Слишком хорошо перевоплощался. Не смог вовремя остановиться.
– Да, – кивает Лоренцо, – всегда есть такое, что нельзя сыграть.
Двое мужчин молча идут по дорожке кладбища. Высокий, худой, тщедушный – и маленький, кругленький, пухлый. Прекрасная комическая пара.
– Он все-таки гениально придумал с Нортеном, – говорит Сальваторе.
– Но про кошачью голову – твоя ведь идея? А без этого ничего бы не вышло.
– Ага, – кивает Сальваторе. – Но Антонелла-то… крепкий орешек. Я думал, сбежит, а она доиграла все, что было положено по сценарию.
– Но с котом – лучшая сцена в ее карьере, – хихикает Лоренцо.
Сальваторе вздыхает:
– Я успел полюбить этого старика.
– У меня остались заготовки сценария, – говорит Лоренцо. – Можем обсудить.
– В другой раз, – отвечает Сальваторе.
Молча они выходят из ворот. Лоренцо садится за руль маленького «фиата», и через несколько минут они вливаются в сигналящий поток автомобилей.
– А знаешь, – говорит Лоренцо, – у меня есть отличная идея. Машины взбунтовались против людей и развязали войну.
– Это уже было. У Стэнли Кубрика, – отвечает Сальваторе, глядя в окно.
– Нет, по-другому. Не объявили войну, а захватили сознание людей. И используют их в качестве… живых батареек! И, чтобы вырабатывать энергию, люди должны совокупляться! Ты представляешь? Они лежат в таких кроватях, попарно, и трахаются друг с другом. Им кажется, что они живут полной, насыщенной жизнью. А на самом деле это сон, который навевает им машина!
– Глупости, – говорит Сальваторе. – Если они трахаются, у них и так все хорошо. Можно им никаких снов не навевать. Пусть просто трахаются. И получим порнофильм средней руки.
– Тогда наоборот. Никто не трахается, нет никаких машин. Зато есть чувак, который умеет проникать людям в сны, – и он их там убивает! Потому что, ну, сны и фантазии убивают нас.
– Ерунда, – говорит Сальваторе. – Мне вообще кажется: фильмы ужасов себя изжили. Посмотри, что снимают американцы. «Посейдон», «Ад в поднебесье», «Аэропорт»… будущее за фильмами катастроф.
– Хорошо, – радуется Лоренцо, – давай сделаем фильм катастроф. Скрестим «Посейдона» и «Ад в поднебесье». Или нет, «Аэропорт» и «Ад в поднебесье». Пусть самолет врежется в небоскреб и начнется пожар!
– А лучше – два самолета в два небоскреба, – мрачно говорит Сальваторе. – Извини, но никто не поверит в такую чушь.
– Хорошо, хорошо… давай тогда оставим фильмы катастроф. Давай снимем эротический фильм про… про Советский Союз. За железным занавесом тоже есть секс! В летних домиках, русских dachas, собираются дети партийной элиты и предаются групповому сексу, как на пляжах Калифорнии. Но их счастье недолго…
– Ради бога, Лоренцо, – говорит Сальваторе, – притормози чуть-чуть. Давай больше не будем сочинять сегодня сюжеты.
– Ну хорошо, – сдается Лоренцо, – сегодня не мой день.
– Что ты хочешь, – отвечает Сальваторе, – дурной день. Похороны великого человека как-никак.
(перебивает)
Вот, про великого человека… Один мой приятель в конце восьмидесятых работал в театре. Попал на гастроли в Европу. Первый раз в жизни вырвался из-за железного занавеса.
Был потрясен европейским изобилием. Шведский стол в отеле. Полные прилавки в магазинах. И главное – никаких очередей.
Он даже начал бояться, что потеряет московский навык добывания пищи.
Но однажды утром он все же увидел очередь. Люди стояли вдоль стены дома, голова очереди терялась за углом. По московской привычке приятель встал в хвост.
Очередь двигалась медленно. Иностранных языков приятель не знал. Спросить, что дают, не мог. Занять очередь и отойти – тоже. Минут через пятнадцать он заметил, что соседи на него косятся. Деликатно, но с удивлением. Тогда он обратил внимание, что все вокруг одеты консервативно. Можно даже сказать – строго. Костюмы. Смокинги. Закрытые платья.
Сам приятель носил рваные джинсы, нечесаные волосы до плеч и серьгу в ухе. Кроме того, у него не хватало нескольких передних зубов.
Очередь свернула за угол, и через пару минут приятель оказался внутри местной церкви. Горели свечи. Люди один за другим подходили к гробу. В гробу лежал седой, очень респектабельный джентльмен.
Деться было некуда. Когда подошла очередь, приятель пожал неподвижную руку. Поцеловал покойника в мертвый лоб. Смахнул театральную слезу и неспешно удалился.
– Местные меня, наверно, до сих пор вспоминают, – завершал он обычно свой рассказ. – Говорят: «Кто бы мог подумать, что покойный мистер О'Хара вел дела с ИРА! Как почему? Вы что, не видели? Они своего эмиссара прислали с ним проститься!»
«Боинг» выруливает на взлет, София смотрит в иллюминатор и думает: я видела смерть Бога, я спала с Богом и видела, как Он умер.
София – образованная девушка, она знает: Бог умирает, чтобы вновь воскреснуть. Она не сомневается: сейчас где-то на земле Бог рождается заново.
Это настоящая античная мистерия. И София приняла в ней участие.
Настоящая гонзо-журналистика.
Непонятно только, как написать об этом в университетском репортаже.
Да и нужно ли вообще писать этот репортаж? София уже не уверена, что хочет и дальше заниматься кино. После того что она испытала за последнюю неделю, все остальное кажется ей мелким, незначительным.
Что сказал ей Бог? Не ходите намеченными тропами, ищите новых путей. Может, ей и свернуть с намеченной тропы?
Бросить кино, оставить мечты о Голливуде, о журналистике? Она ведь не хочет быть актрисой – да, точно не хочет. Может, лучше сделать, как всегда советовала мама: выйти замуж, нарожать мальчиков и девочек, купить домик в пригороде, хорошую большую машину, вырастить детей, отправить их в колледж, дожить до старости, поиграть с внуками, спокойно умереть в собственном садике, как Марлон Брандо в «Крестном отце»?
Можно и так. Ведь после смерти ее все равно ждет встреча с ее Богом.
«Боинг» отрывается от земли. Вечный Город удаляется в иллюминаторе.
Римские каникулы закончились.






